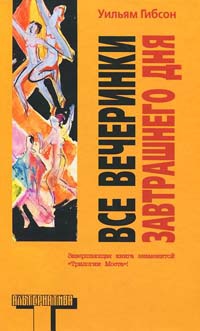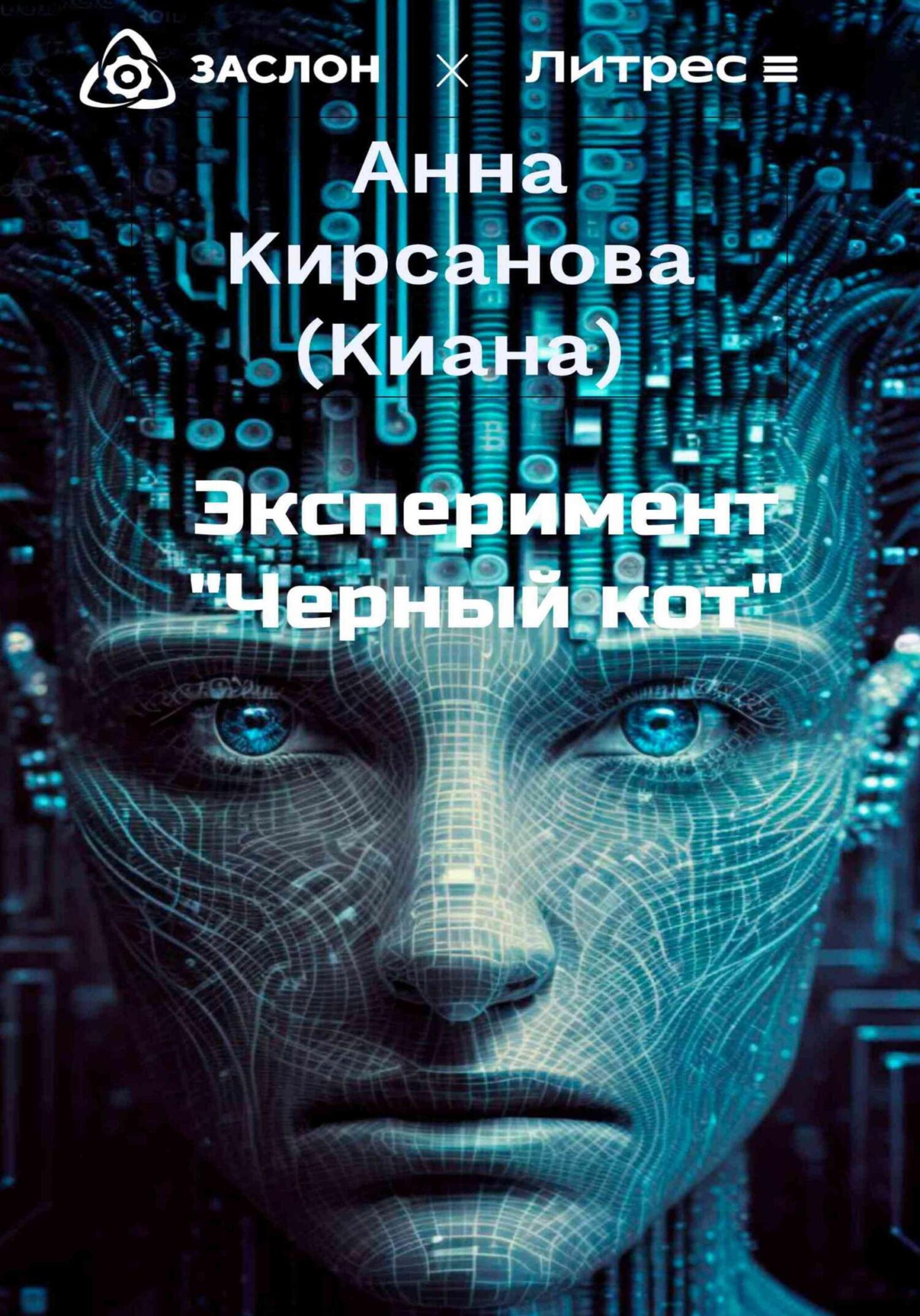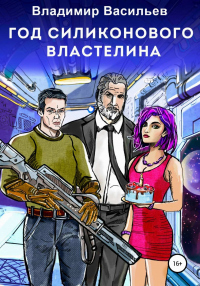бьётся так сильно, что больно в груди. «Иногда ты видишь не мир, а самого себя — в чужих глазах. И это страшнее любых теней».
Эта мысль пронизывает его, как игла — холодная, беспощадная. Он вдруг понимает: здесь, в этом мгновении, всё меняется. Не потому, что хирург спросил — «Есть ли у вас семья?», а потому, что Мирослав впервые не знает, что ответить себе самому.
И вот в этом напряжении, которое невозможно разрезать ни словом, ни скальпелем, он слышит стук собственного сердца — и шёпот прошлого, которого он так боялся. Эта сцена — не о зубах, не о боли тела. Она о боли памяти, о страхе, который цепляется за горло и не даёт вдохнуть. И он понимает: с этого момента всё, что он делает — это не просто работа. Это борьба с тем, что внутри.
И когда мужчина уходит, а Мирослав остаётся один в тишине, он слышит, как в коридорах за стенами шаги звучат глухо, будто в чужой стране. Он знает — он останется врачом, но в этот миг он понял: нет ничего страшнее, чем увидеть самого себя — в чужих глазах, в чужом горе. И он ещё не знает, готов ли он к этой правде.
Когда Мирослав остался один, тишина кабинета звенела в ушах. Вроде бы всё закончилось — пациент ушёл, дверь закрылась, но в воздухе ещё дрожал след его слов, как пульс под кожей. Мирослав сидел, положив ладони на холодный металл стола, и смотрел в точку — туда, где кончался свет лампы и начиналась тень.
В этом взгляде хирурга, полном растерянности и боли, он впервые увидел не чужую жизнь, а собственную. Вопрос, сказанный как будто мимоходом — «У вас была семья?» — звучал в нём эхом, будто он сам только что произнёс его. В этом голосе он слышал собственный страх — не страх разоблачения, а страх быть узнанным в чём-то, что он прятал даже от самого себя.
«Иногда ты видишь не мир, а самого себя — в чужих глазах. И это страшнее любых теней».
Эти слова — как гвозди, вбитые в грудь. Потому что он всегда умел быть ровным, спокойным, стоять на краю чужих драм, как на краю пропасти. Но в этот раз чужое горе проросло в нём, как сорняк — и в его собственных словах он вдруг почувствовал дрожь.
Он всегда считал, что достаточно быть хорошим врачом, чтобы никто не заглядывал за его маску. Но теперь понял: достаточно одного чужого взгляда — и все маски рушатся. Мужчина ушёл, но за ним осталась трещина — узкая, как лезвие ножа. Мирослав знал: он снова придёт. И тогда придётся отвечать не на вопросы про зубы, а на вопросы, которые он всегда пытался забыть.
Он вытер руки спиртом, но холод не уходил. Кожа помнила прикосновение — не физическое, а куда глубже. Он закрыл глаза, глубоко вдохнул — и впервые за долгое время почувствовал слабость.
«Я — чужой в этом времени. Но и он — чужой в своём горе».
Эти слова стали его тихой мантрой. И он понял: всё, что будет дальше — уже не просто его работа. Это борьба, которую он ведёт с самим собой. И, может быть, с тем, что он так и не решился назвать.
Глава 116
Вещи из будущего
Мирослав стоит у окна своей комнаты в общежитии — место, которое ещё вчера казалось укрытием, а теперь кажется узником, запертым в собственном теле. За окном — влажный московский вечер, фонари горят мутным светом, как глаза больного зверя, и каждый их луч кажется чужим и угрожающим. Воздух в комнате густой, пахнет сырой штукатуркой, лекарствами и чужими следами обуви — следами людей, которые приходили и уходили, оставляя за собой тени.
Он опирается ладонями о подоконник. Пальцы дрожат, но он не знает — от холода или от внутренней дрожи, которая не даёт выдохнуть. Тело ломит: ноет спина, тянет затылок — как будто кто-то глухо, методично стучит изнутри черепа, требуя ответа. Лёгкое головокружение, как после бессонной ночи, а в горле — терпкий привкус железа.
«Что, если я схожу с ума?».
Он чувствует, как эта мысль пульсирует в висках. Липкая, как тень в углу комнаты, она прикасается к нему, и он невольно сжимает зубы, чтобы не дать ей прорваться наружу.
— Ты же врач, Мирослав… Зачем тебе эти видения, этот страх? Ты ведь всегда был уравновешенным…
Голос Николая звучит в памяти — смешанный с эхом собственных мыслей. И это эхо колючее, резкое, как ледяная вода на коже.
Мирослав закрывает глаза, но даже так он видит перед собой бесконечный коридор — светлый, больничный, с запахом карболки и пустотой в глазах людей. В этом коридоре он не Мирослав-врач, не Мирослав-омега — он пустой сосуд, в котором кто-то чужой разливает собственную власть.
«Я чужой. Чужой здесь — и чужой там, откуда пришёл…».
Он вслушивается в тишину вокруг: где-то за стеной кашляет старик, скрипит кровать, с улицы доносятся глухие шаги. Но всё это — как сквозь вату. А внутри — будто сердце стучит с другой скоростью, сбивая дыхание.
— Николай должен знать. Только он…
Он отталкивается от подоконника, ощущая, как влажный холод пропитывает его насквозь. Каждое движение даётся с усилием — мышцы ноют, словно после долгой болезни, но он не может позволить себе сдаться.
Тени от лампы на стене дрожат, удлиняются — и в них ему чудится чьё-то лицо. Может быть, это всего лишь его собственное отражение, размытое, как недопитая мысль. Но он не отводит глаз, потому что знает: сегодня он скажет то, что нельзя произносить. И от этого зависнет всё — дружба, доверие, даже его собственное право называться человеком.
«Или я один. Навсегда один».
Он выдыхает, коротко, как отрезок молитвы, и сжимает пальцы на подоконнике так, что кости побелели.
— Николай. Я должен рассказать тебе правду…
И эта тишина, густая и вязкая, кажется теперь не врагом, а последней границей перед тем, как сказать вслух то, что так долго жил внутри него.
Он сидел у стола, перебирая пальцами кончик карандаша — кончик, который уже несколько раз надломился, словно подчеркивая хрупкость всего вокруг. Комната была пуста,