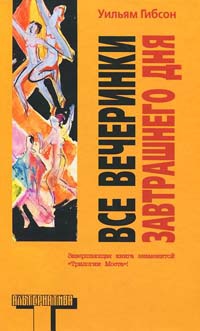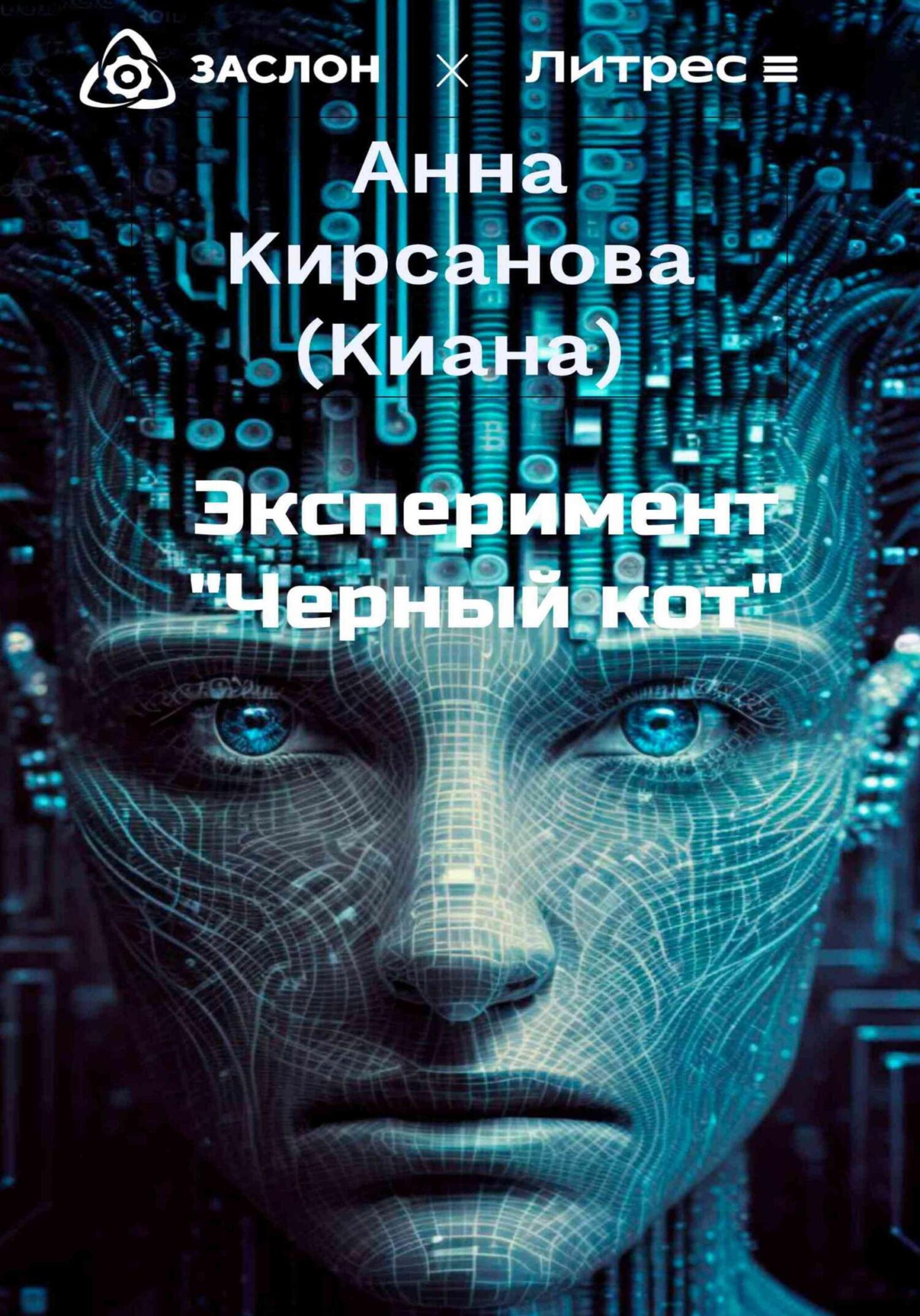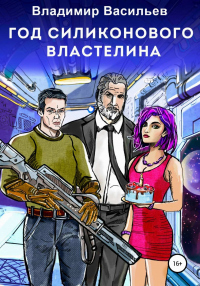образ этого мужчины врезался в память с пугающей ясностью. — Он спрашивал, есть ли у меня семья. Будто хотел услышать что-то другое. Будто знал — или хотел, чтобы я подтвердил.
Он вдохнул резко, словно каждый вдох приходилось вырывать из воздуха с силой. Слова звучали спокойно, но под ними билась дрожь, напряжение, которое он больше не мог скрывать.
— Я сказал, что у меня её нет. Но он… — Мирослав осёкся, и губы его дрогнули, как у того хирурга, которому он сегодня лгал. — Он слушал — но как будто знал, что я всё равно вру. А я ведь не врал.
«Почему в каждом слове чужого — такое узнавание? Почему оно мне страшнее, чем сам страх?».
— Может, это совпадение, — тихо сказал Николай, но голос его звучал неуверенно. Он поднял руку, положил на плечо Мирослава — и тот почувствовал, как этот простой, человеческий жест разрывает его замкнутый страх.
— Нет, — покачал головой Мирослав. — Это было не совпадение. Он говорил так, словно видел меня… но не меня. И я боюсь… боюсь, что он придёт ещё.
В воздухе повисло молчание, густое и вязкое, как туман в предрассветных улицах. Мирослав смотрел на свои руки — тонкие, бледные, словно чужие. И только внутри всё ещё шептало: «Ты больше не скроешься. Ты уже сказал слишком много».
Он поднял взгляд, и в нём была не просьба — но упрямство того, кто решился выстоять. — Ты должен знать, Николай. Потому что теперь это не просто моя тайна.
Тени за окном сливались в сплошную серую завесу, но внутри комнаты становилось светлее. Мирослав знал: он рассказал — и теперь уже не отступит.
Мирослав замолчал, и комната будто погрузилась в зыбкое, предгрозовое безмолвие. Шорох ветра за окном казался чуждым, и даже лампа, тускло мерцающая в углу, дрожала вместе с его дыханием. Он сжал руки так сильно, что костяшки побелели, а в висках застучала пульсирующая боль.
— Никто не должен знать, — сказал он тихо, почти шёпотом. Но в этих словах звучала не просьба, а приказ — тяжёлый, неотвратимый. — Ни единая душа, Коля. Услышишь меня? Никому.
Он поднял взгляд на друга, и в этом взгляде было всё — страх, который уже не мог скрыть, и решимость, которую он должен был сохранить. Глаза Мирослава горели, как сталь, закалённая в пламени, и даже голос, дрожащий, казался твёрдым.
— Я сам до конца не понимаю, что происходит, — выдохнул он, чувствуя, как в груди разливается ледяное спокойствие. — Но если это узнают… всё, что я пытался удержать, рассыпется.
Тени отбрасывали странные формы на стены — будто мир, привычный и безопасный, становился зыбким, ломался на глазах. Мирослав почувствовал, как по спине пробежал холодок, будто кто-то стоял за его плечом и слушал каждое слово.
— Пообещай, Коля, — прошептал он, почти умоляя. — Не предавай меня. Пусть это останется между нами. Ты слышишь?
— Мирослав, — Николай наклонился ближе, его рука легла на плечо друга, и в этом прикосновении было всё — и забота, и готовность защитить, и страх. — Я… я понимаю. Слышишь? Я никому не скажу. Даже если… даже если сам не понимаю, что ты мне только что сказал.
«И всё же он понял… — думал Мирослав. — Понял ровно столько, сколько нужно, чтобы поверить мне. И этого достаточно».
Молчание повисло между ними, густое, вязкое, но не разрушительное — как глухой стук сердца в груди. Мирослав выдохнул, медленно опуская руки — пальцы дрожали, но он уже не пытался их спрятать.
— Спасибо, — сказал он слабо. — Спасибо… что ты рядом.
Он закрыл глаза, и на миг показалось, что всё это — кошмар, который рассосётся, стоит только открыть их снова. Но когда веки поднялись, он увидел то же самое: серые стены, дрожащий свет, и друга — такого же усталого и напуганного.
— Ты ведь знаешь… — сказал он, почти улыбнувшись, хотя в улыбке не было ни капли радости. — Всё это — не конец. Это только начало.
Николай кивнул, и этот кивок был не просто согласием — он был клятвой.
И в этой клятве Мирослав услышал то, что было важнее любых слов: он не один. И это значило, что он ещё мог идти дальше. Даже если впереди — лишь темнота.
Глава 117
Встреча с супругом
Маленькая квартира на втором этаже старого дома, словно сама дрожала от холода и ветра за окном. Стены — тонкие, с облупившейся краской, в углах — пятна сырости, а по полу тянулся слабый запах старой каши, будто кто-то готовил её ещё утром и оставил забыть. Узкий коридор, в котором даже шаги звучали громче, чем хотелось бы. Тусклый свет лампы — жёлтый, мерцающий, будто ждал, чтобы его наконец сменили на новый. В комнате — полутемно, и каждый вдох напоминал о том, как много здесь чужого, но всё же неизбежного.
Илья Гринёв стоял у двери — сутулый, бледный, с дрожащими пальцами, которые он пытался спрятать в кармане халата. Глаза — напряжённые, тревожные, будто боялся увидеть в своём супруге то, что разрушит всё, что у них было. Его взгляд метался между глазами Петра и пустотой квартиры — словно в этой пустоте жил кто-то третий, кто знал больше, чем они сами.
Пётр Гринёв молча входил, плечи его были напряжены, а лицо усталое, но собранное. Он медленно снимал пальто — жестом, который казался вечным, как будто каждая складка этой ткани помнила всё, что он пережил за день. Шум от снега, прилипшего к сапогам, был едва слышен, но казался оглушающим. Он знал — Илья ждёт слов. Ждёт ответа, который не сможет унять тревогу, но хотя бы даст понять: всё ещё держится.
— Ты опять задержался… Всё хорошо? — Илья говорил тихо, почти шёпотом, но в этом шёпоте слышался упрёк. Не злой — скорее, полный страха.
— Да, — Пётр отводил взгляд, словно боялся, что Илья увидит в его глазах нечто, чего нельзя было скрыть.
— Пётр… ты выглядишь так, словно несёшь на плечах целый мир.
— Мир… — голос Петра стал глухим, словно чужой. — Я видел его.