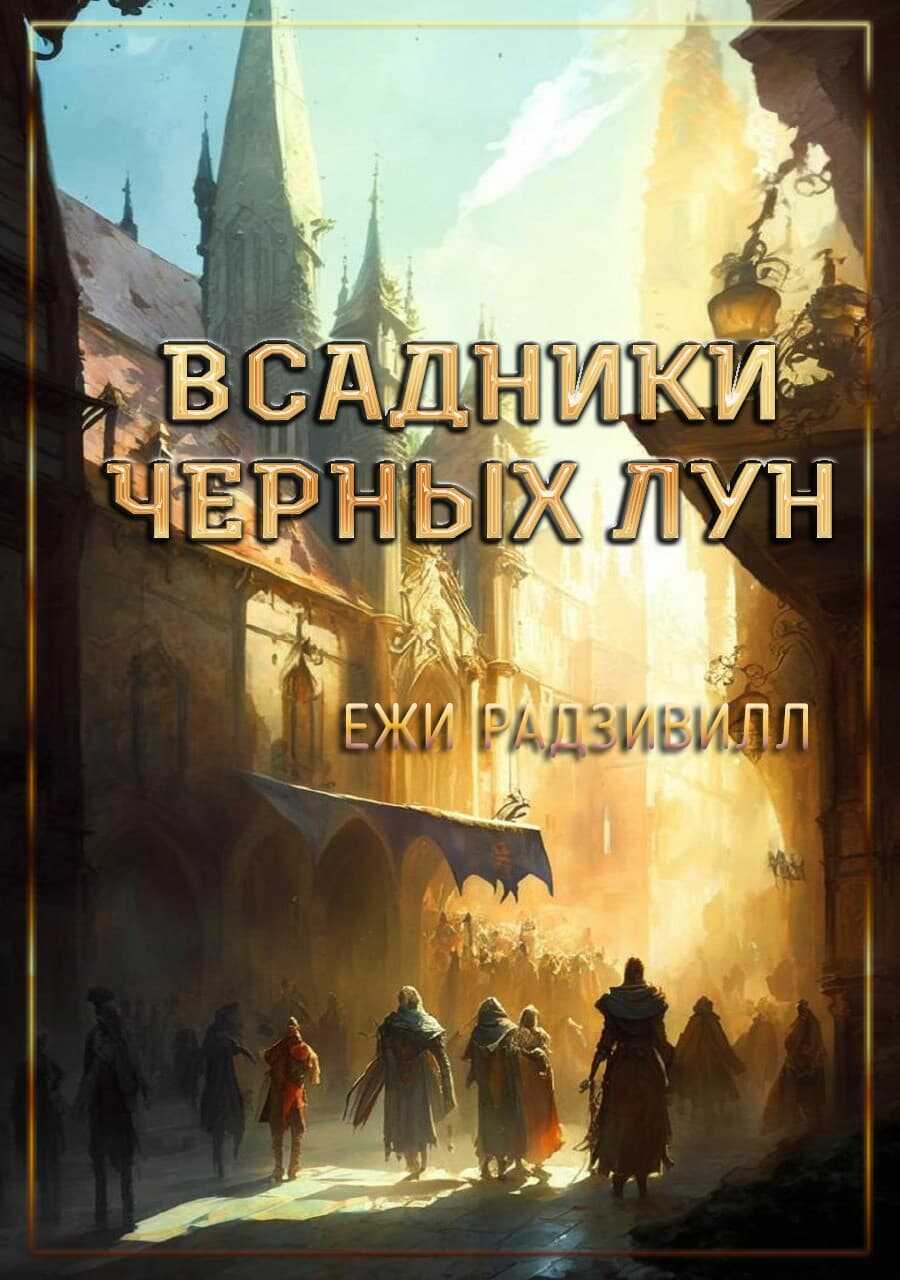в ней, которая широка бывает уж в своих проявлениях. Доверчивость и коварство, достоинство и бесхарактерность, честь и бесчестье, преданность и предательство, откровенность и скрытность – об этом и о многом другом, происходящем на суше и на море, рассказано в его книгах, вобравших в себя роскошное богатство красок жизни, проявление человеческих характеров.
Какое наслаждение перечитывать его очерки («Солёный лёд»), в которых присутствует немало персонажей открытых, честных, верных слову (им подарена явная симпатия рассказчика) и которым оказывает предпочтение само море – так, как будто именно оно, заключив договор с автором, создаёт свою уникальную коллекцию.
Вот уж недаром во время арктического плавания капитан встречного ледокола «Семён Челюскин» по радио сказал вахтенному штурману, попросив передать Конецкому и даже записать это в вахтенный журнал такую фразу: «Виктор Викторович самый хитрый и счастливый человек на свете». (Сам Конецкий признался, что не понял, что этим хотел сказать незнакомый ему капитан.)
К этому мне остаётся добавить, что имя Виктор – это победитель с латыни. Ну а уж Виктор Викторович – так это уж сплошная виктория, то есть победа…
Повезло мне в жизни однажды, в середине семидесятых, встретиться с Конецким и побеседовать с ним с глазу на глаз. Душевный и тёплый был у нас разговор, в котором мы касались проблем, связанных с творчеством. Среди прочего запомнилась его фраза: «Я считаю, что настоящий писатель – тот, которому счастливо удаются женские образы!» Но при всём том, продолжил он, чтобы полностью посвятить себя творчеству, следует выбрать полное одиночество и жениться не следует. И добавил с улыбкой: «Больше того, надо обязательно не жениться!»
Должно быть, так подсказала ему его душа моряцкая.
Не могу не вспомнить ещё об одном писателе, отдавшем солидную дань этой беспокойной жизни, то есть связавшем свою судьбу с морем – это Юхан Смуул, как представили его в одной аннотации, «рыбак и сын рыбака». По-человечески близок он мне ещё и одной подробностью: ему, как и мне, довелось плавать в Японском море, о чём он написал небольшую одноимённую книгу.
О забавном и замечательном его определении духа морской тоски я уже писал. Смуул показал, как она переживается молодым человеком, когда, будучи в рейсе, он то и дело достаёт и вертит перед глазами фотографию девушки: «И будущий кандидат географических наук, двадцатипятилетний аспирант, вздыхает так же шумно, как вздыхают в ночном лошади.»
А вот его пассаж о море:
«Может ли монотонное быть красивым? Да, может. Самая гигантская и самая монотонная работа в мире – это работа моря. Повторяются его приливы, повторяются его отливы, волны чередуются через равные промежутки и похожи одна на другую. Но его вечное монотонное движение, его беспокойство, его привычка разбрасывать свои гигантские силы, привычка, с точки зрения человека, бесполезная, а зачастую и разрушительная, – всё это потрясло своей мрачной красотой Байрона и Гейне, Бьёрнсона и Конрада, благодаря чему слава моря дошла и до горных пастухов.»
Не лишне здесь будет вспомнить о творческом кредо писателя, основанное на его отношении к жизни вообще и свойствам человеческим, – кредо обнародованное ещё около полувека назад.
«Прямо зло берёт, с каким плохо скрываемым упоением мы роемся в пережитках современного человека. Мы стали великими специалистами по части недостатков, мы описываем их словно какую-то драгоценность, украденную у нас карманником. Не в этом ли одна из причин того, что по нашей литературе бродит столько полубольных и больных старых интеллигентов, изображаемых часто крайне неинтеллигентно. Разумеется, тяжело, когда человеку не удаётся выдержать бурный натиск новой эпохи и он даёт в себе погибнуть или сам в себе убивает Моцарта. Согласен, это трагедия. Но наша главная задача состоит не в том, чтобы нести караул и описывать мертвецов. В конце концов, мы должны идти к людям, в которых Моцарт жив.»
Как же нехватает этого нам всем сегодняшным!
7.01
Не выходят из головы мысли вообще о нерасторжимой связи человека и моря, которая проявляется в жизни множества моряков и рыбаков – этих, как сказал Гюго, тружеников моря. Но, кроме упомянутых мной писателей-прозаиков, в категорию персон, имеющих отношение к морю, могут войти деятели науки, культуры… Есть у моря и свои поэты. Один из них – тоже водоплавающий, кумир шестидесятников.
Если дать волю фантазии и творчески в одном лице соединить образы Конрада и Конецкого, с тем чтобы вообразить этакого объединяющего обоих поэта – это будет Александр Городницкий. Многочисленны его океанские пути-дороги, проходившие не только «у Геркулесовых столбов». О том, что от них на воде не остаётся и следа, он мог написать так:
Луна над бездною немой
Горит, как дальнее окошко.
Смотрю назад, где за кормой
Кружится водяная крошка.
Там пенный след вскипает, крут,
На дне бездонного колодца,
А через несколько минут
Волна волной перечеркнётся.
С водою сдвинется вода,
Сотрёт затейливый рисунок,
Как будто вовсе никогда
Её не вспарывало судно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И ты, плывущий меж светил,
Недолог на своей орбите,
Как белый след, что прочертил
По небосводу истребитель,
Как облаков холодный дым,
Что завивается как вата,
Как струйка пенная воды,
Что называется «кильватер».
События недолгих лет
Мелькнут как лента на экране,
И ты пройдёшь, как этот след
В невозмутимом океане.
Александр Козловский
Гравюра А. Козловского
И вопреки тому, что всё пройдёт, «как этот след», – остаётся одно, нерушимое:
Маяк, мерцающий вдали.
Воды солёная пучина.
Привычка плавать вне земли
Практически неизлечима.
Любой моряк подпишется под этими строками.
8.01
Всегда вызывает уважение человек самозабвенно преданный своему делу. Таким был мой сверстник Александр Козловский – океанолог, работавший в Институте Арктики и Антарктики. Ещё в шестидесятых, будучи студентом ЛГУ, он ходил в Антарктику и с этого времени изучение морских льдов Южного океана стало его профессией, а суровый край Антарктиды сделался для него подлинной страстью: он был участником многих антарктических экспедиций. Его очерки публиковались в журналах «Нева», «Вокруг света», в Петербурге тиражом 101 000 экземпляров вышла его небольшая книга («Вокруг только лёд», Гидрометеоиздат, 1988). Кроме других достоинств, в