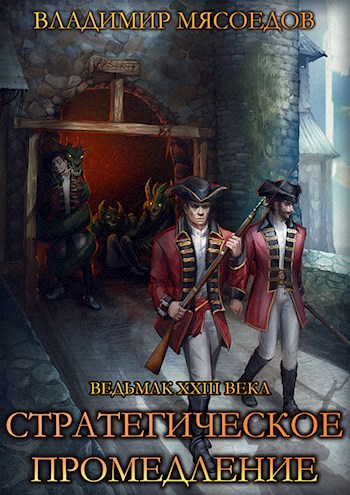них, так что с них взять.
Почесав затылок. Стригун между тем продолжал:
— В нашей камере сидел один законник. Он нам про какую-то новую науку о потерпевших рассказывал. Забыл, как называется, ихтиология, что ли?..
— Не ихтиология, а виктимология. Есть такая наука, — сказал следователь, улыбаясь.
— Точно. По этой самой науке выходит, что и в потерпевших часть нашей вины зарыта, из-за них многое. Не было бы таких, как ты, Лохов, и нас бы поубавилось. Из-за таких и сидят люди, — сказал Стригун и закончил: — Мы, например.
— Это что же получается, дорогие граждане, — взъерепенился Лохов. — Выходит, я во всем виноват?!
— Судьи-то с этой наукой знакомы? — перебил его Стригун вопросом к следователю.
— Знакомы, Стригун, не волнуйтесь.
— Ну раз знакомы, тогда ты. Лохов, для нас сущий клад. Не ошиблись мы в тебе. Судьи учтут твою личность в совещательной комнате, когда сядут приговор писать. И должны нам срок снизить.
— А со мной-то как?! — рвался к правде Лохов. — В конце концов, бриллианты они пли нет?!
— Лучше спроси, — съязвил шепотом Стригун, — вор ты или не вор?
— Вор я или не вор?! — прокричал Лохов попугаем.
— По закону вы не преступник, — ответил следователь. — Ошиблись в объекте. Так это на юридическом языке называется.
— В каком еще объекте? — не успокаивался Лохов.
— Вот в этом, — ответил следователь.
Он встал, отпер сейф и достал из него граненый стакан. В стакане на свету будто плескалась вода.
Следователь высыпал на стол груду прозрачных камешков. Дал полюбоваться трофеями, собранными у обманутых людей. Умело отшлифованные грани заиграли, забегали лучами. Но их блеск был фальшивым.
II
Дети, как желуди, падают с древа — родословного древа, и если мы хотим знать, что вырастет из маленького зернышка, надо лишь поднять голову и взглянуть на дерево, с которого оно упало, отыскать глазами тот отросток, с которого семечко сорвалось, затем ветку, на которой держится этот отросток, наконец, — ствол, спуститься вниз по стволу до самых корней и посмотреть, какая почва питала это дерево.
...Дети не приходят «ниоткуда», как говорит нам один поэт, напротив, дети — это порождение всего человечества. С каждым ребенком время как бы подводит итоги прошлому и открывает свою новую страницу.
Рокуэлл Кент. «Это я, Господи»
Он помнил, что дальней дорогой всегда шагал, крепко держась за добрые руки. Левая — большая, жесткая, теплая. Правая — потоньше и помягче, тоже теплая. Да и шел ли он тогда? Поджав ноги, взлетал над землей. Над пылью, грязью, над травой и серым асфальтом. А зимой проносился над ледяными языками замерзших луж.
Позже ему уже не удавалось парить над землей. Потому что держался он только за одну руку. Мог, конечно, еще подскакивать и подпрыгивать, но его торопили, тянули — он успевал лишь бежать.
А вскоре его уже никто не держал. Он брел сам по себе. И волен был идти любой дорогой...
На четвертом обыске
— Папа, а у преступников есть дети?
— Есть, сынок...
Сначала он прижался лицом к решетке перил. И в причудливых завитках чугуна проглянула тугая щека, над щекой заблестел глаз. Но на ближней лестничной площадке уже никого не оказалось. Только где-то внизу удалялись шаги. И среди них — шаги отца.
Тогда, цепляясь за решетку, он встал на носки, подтянулся, и из-за перил показалась пушистая макушка. Наступив ногой на перекладину, мальчуган все же поднялся над перилами и, рискуя свалиться в бездну, перегнулся, почти свесился. Группа людей заворачивала уже на второй этаж. Разглядев отца, мальчик закричал:
— Папочка! Папочка! Ты скоро придешь?!
Но отец не ответил. Даже не повернул головы. Будто не слышал. Теперь мальчик видел лишь его затылок и плечи. Отец уходил.
Малыш снова закричал. Звонко, на все шесть этажей. Казалось, крик, ударившись о заплеванный пол подъезда, полетел вверх и забился о грязные, битые стекла потолка (такие потолки еще сохранились в старинных домах). Чистый крик ребенка. Но крик без слез и отчаяния. Мальчик всего лишь требовал ответа, когда вернется отец.
А тот и сам не знал, когда. Во всяком случае, не вечером. И не завтра. И не через месяц. Да и не в ближайшие годы.
Тремя ступеньками выше спускался следователь. И в его уши бился этот вопрос. Но и он не назвал бы точно срок разлуки.
И не в этом незнании заключалась тягость молчания. А в том, что взрослые мерили годами, малыш же — часами. Он и спрашивал о часах. В этом разрыве понятий и была трагедия.
Постичь ли пятилетнему значение преступления, следствия, суда? Необходимость наказания? Как уяснить, что отец не только не может, но и не должен вернуться сегодня вечером? И завтра. И через месяц. Даже в ближайшие годы.
Пока мальчика кольнула только обида. Отец не ответил ему. За что же он рассердился? Разве сын не сделал так, как ему приказали? А если нет, то почему не подсказали? Ни папа, ни бабушка. Оба промолчали, отвернулись, когда к нему подошел тот высокий... следователь... Что значит «следователь»? И почему им подчинялись все? Даже папа. Они вели себя, как хозяева, что было крайне необычно. Без спроса брали любые вещи, а посмотрев, даже клали не туда, где взяли. Сам он ничего из вещей взрослых не брал без спроса...
Хлопнула дверь. Теперь на лестнице осталась только тишина. Да ребенок. На самой верхней площадке...
* * *
Случалось, отец подвозил Сережу из садика на служебной машине. А сам — дальше, на задание. Конечно, мальчик занимал место рядом с водителем. И тот не для быстроты, а ради соседа изредка включал сирену. Она выла на всю улицу. Расступались машины. Разбегались пешеходы. А малыш, сжав губы, гордо сидел столбиком, смотрел вперед немигающим взглядом и всем своим пятилетним существом старался скрыть счастье. Хлопнув дверцей, он один шагал через двор к своему подъезду. Сам ростом с колесо машины.
...В тот день мы провели семь обысков. В эту квартиру вошли днем, когда бабушка только что привела внука с прогулки и раздевала.
В коридоре стало людно. Мальчик сразу пробился к отцу сквозь толпу, пополз по нему и, крепко обвив руками его шею, угнездился наверху.