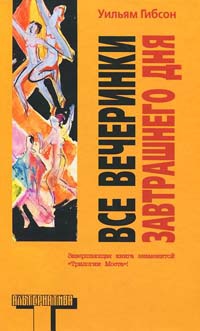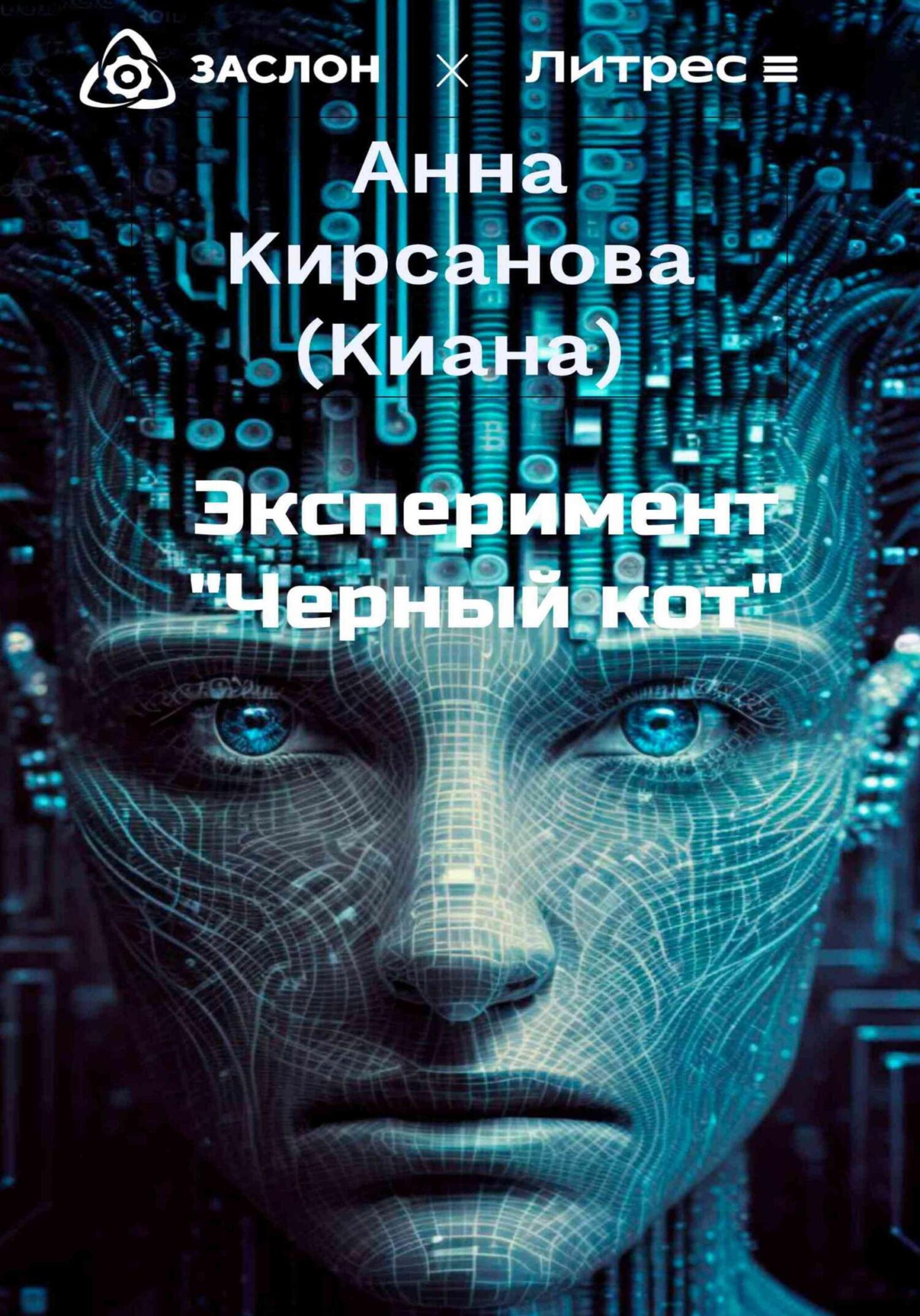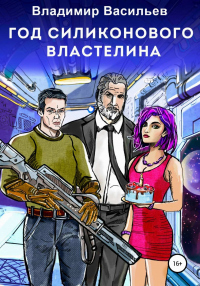но слова вцепились. Так не называют врача. Так говорят о чём-то, что нельзя объяснить.
Он вышел из ординаторской, думая о звонке, который пришёл за десять минут до этого. Номер — не записан, голос — не узнал. Только дыхание в трубке. Слишком тихое, чтобы быть угрозой. Слишком живое, чтобы забыть.
Блокнот остался на столе. Последняя запись — «Илья», чёткими, как вколотыми, буквами. Он не знал ни одного Ильи в этом времени. Но рука написала — значит, знал.
Лампочка над головой слабо гудела, и этот звук совпадал с пульсом. В ведре под лестницей капала вода с тряпки — кап, кап, кап — и каждый удар отдавался в желудке. Всё в этом пространстве сужалось к центру. К одной точке. К двери.
«Если сейчас постучат — это не будет сюрпризом. Это будет подтверждением. Чего — не знаю. Но подтверждением».
Он чувствовал, как между лопаток проступает пот. Как будто спина угадывала чьё-то приближение. Дежавю, но без образа — только телесный след. Как будто был уже здесь. Как будто снова повторяет то, что ещё не случилось.
«Если это оно… пусть будет. Я устал быть зрителем. Я хочу знать, кто я, даже если это последнее, что мне позволено».
Тишина вокруг была плотной, как шерстяное одеяло в душной комнате. Не глушила, а придавливала. Она как будто ждала вместе с ним. Не успокаивала — напротив, усиливала каждый внутренний звук. Сердце билось неровно. Внутри было ощущение: кто-то уже здесь.
Он не знал, кто. Но тело — знало.
Три удара.
Не звонок. Не стук костяшками. Не просьба. А именно удары — тяжёлые, решительные, как будто не в дверь, а в кость.
Он вздрогнул. Всё внутри стало сухим. Глотка сжалась. Шум исчез. Как будто здание выдохнуло вместе с ним.
«Это ко мне. Не к корпусу. Не по ошибке. Я — цель».
Он стоял молча. Дверь, будто дышала. Сквозь щель над замком слышался гул — как от улицы, полной дыма и людей. Но он знал: там — никто. Только они. Двое.
Второй удар — глуже. Третий — мягче, но ближе. Он подошёл. Постепенно. Без воли. Рука сама легла на ручку, но не повернулась.
Из глазницы дверного глазка — ничего. Туман. Как будто стекло смотрело в него, а не он в стекло.
Пауза.
И голос.
— Мирослав? Можно на минуту?
Он не узнал голос. Но тело — узнало. Как узнаёт запах улицы, где однажды был расстрел. Или голос, который однажды звал по имени, не называя.
Он не ответил. Только стоял.
— Мы… не хотим зла. Только поговорить.
«Голос младше. Второй. Омега. Но не тот, кто говорит первым. Альфа — тот, кто молчит. Но стоит. Слишком долго. Как часовой. Как тень из прошлого».
Он приоткрыл.
Первым он увидел пальто. Длинное, грубое, без пуговиц — как будто человек шёл не по улице, а сквозь время. Лицо — будто вынули из архива. Брови — прямые. Рот — замкнутый. Не угроза, но нечто близкое. Вечность. Сторож.
Позади — другой. Лёгкий, будто свет от лампы, с очками, запотевшими в воздухе, где пахло кровью и формалином. Тот держал перчатки. Белые. Плотные. Как для операций.
— Мы не задержим. Просто — вы… вы можете нам помочь. Нам нужно понять.
Он хотел закрыть дверь. Но ноги не послушались. Как будто прижились к полу.
«Это они. Те, кого я не помню. Но помнит тело. Кости. Запястья. Шрамы. Всё знает. Я просто — догоняю себя самого».
Пётр не шевелился. Только взгляд — как гвоздь, вбитый в косяк.
Илья шагнул ближе.
— Простите. Вы не обязаны… просто, это важно. Очень. Для нас обоих.
Он молчал. Пальцы слегка дрожали на внутренней стороне дверцы. Горло снова сжалось. Но голос пришёл — как будто из глубины чужого времени.
— Вы… зачем пришли именно ко мне?
— Потому что мы искали. Долго. И потому что — это вы. Даже если вы этого не знаете.
«Знаю. Знаю, но не умею сказать. Как сон, который невозможно рассказать словами — потому что он внутри. Потому что он живой».
Илья чуть опустил взгляд. Перчатки в его руках сжались.
— Я не могу объяснить, откуда я знаю. Но знаю, что вы… не чужой.
Он сделал полшага назад. Не прочь закрыть дверь. Но плечи — сами пошли в сторону. Как будто двигался не он. Как будто что-то старое открывало проход.
Он разом понял: не пустить — невозможно. Не потому что боится. А потому что поздно. Они уже здесь.
Пётр всё ещё стоял у двери, словно замыкал собой проход в иное время, в иной порядок вещей. Он не двигался — и от этого становился будто частью стены. Каменной. Надгробной.
Илья стоял ближе. Он не смотрел по сторонам. Только в Мирослава. В упор. Но мягко. Как будто изучал не черты лица, а то, что за ними.
— Конечно. Проходите.
Мирослав услышал собственный голос, как будто из чужого рта. Он был ровный, даже вежливый, но внутри — трещина. Он чувствовал: это звучало не так. Слишком искусственно. Слишком собранно для омеги, у которого дрожит правая рука.
Он отступил, и перешагнул через себя.
Илья сделал шаг — тихо, сдержанно. Но не до конца. Он словно не хотел навязаться пространству. Пётр остался у двери.
«Если они правда… Если это не обман… Что мне сказать? Простите, что умер не вовремя?»
Он почувствовал, как пальцы цепенеют. Он незаметно сжал правую руку в кулак. Ладонь была мокрая.
— Не будем мешать надолго, — сказал Пётр.
— Нам просто… нужно было посмотреть, — добавил Илья, и в этих словах было что-то такое, чего Мирослав боялся: нежность.
Он прошёл мимо. Медленно. Осторожно. Как будто боялся, что Мирослав исчезнет, если к нему подойти слишком близко.
«Запах… Табак. Точно такой. Липкий. Горький. Он курил его у окна. Или я сам это выдумал?..».
Он провёл рукой по стене — будто искал опору.
— Вы ведь… вы работаете здесь? — спросил Илья.
Мирослав кивнул. И сразу пожалел — это было слишком быстро. Он замедлился, повернулся, показал