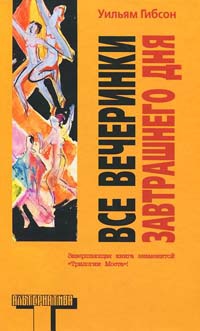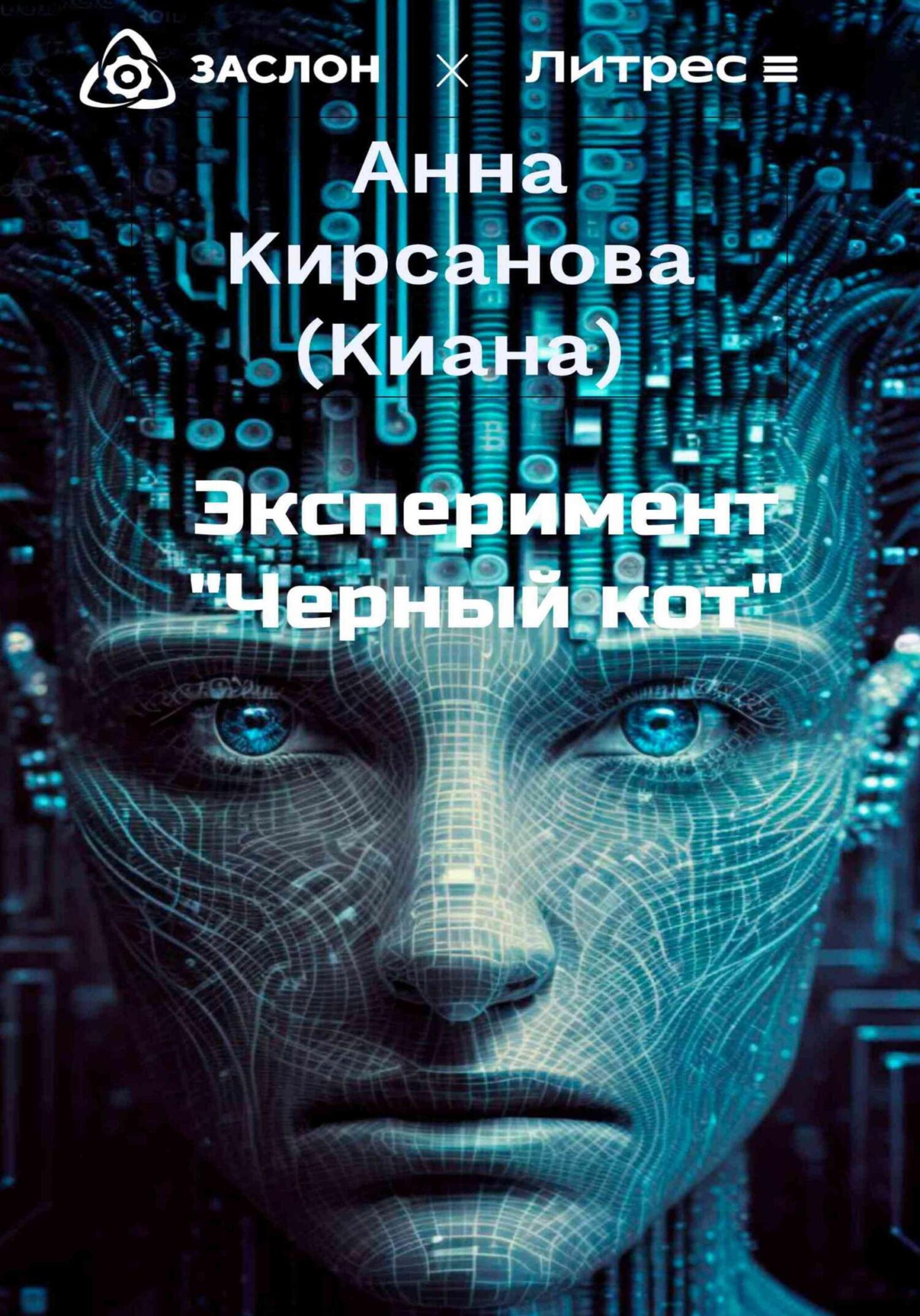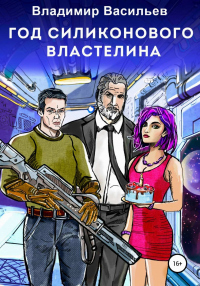Фонари гудели не светом, а напряжением — жёлтое свечение, как от старой ртутной лампы, бралось за кожу и оставляло привкус металла. Мирослав не вышел сразу. Сидел. Смотрел, как по тёмному стеклу отпечатался его профиль — не лицо, а тень, чужая, вытянутая, как будто время ещё не догнало форму.
«Теперь я — не я. Теперь каждое моё слово — это выстрел из чужого рта».
Он опустил голову. На пальто лежал белый налёт — не пыль, не снег. Просто осадок. Как после химической реакции.
«Я больше не омега. Я — представитель. Я — носитель линии. Я — функция».
Водитель кашлянул — не с намёком, а будто от холода. Но Мирослав уже понял: каждый звук теперь будет значить больше, чем сам по себе.
Он вошёл в приёмный корпус через служебный вход. Дежурный поднялся, резко вытянулся. Слишком резко. Это не было уважением.
— Товарищ Миргородский… Вас… уже ждут.
— Кто?
— Зам начмеда. И… ещё двое из главного корпуса. Они хотели… обсудить.
«Обсудить. Не поговорить. Не спросить. Уже — обсуждают. Уже — за глаза. Уже — внутри них я существую без себя».
— Пусть подождут. Мне нужно пройтись.
Он пошёл по коридору. Медленно. Как будто ступал по воде. Свет в коридорах был тусклым — и всё равно казался избыточным.
Из окна процедурной кто-то посмотрел. И сразу отвернулся.
— Он теперь с ними. Наверху.
— Думаешь, просто так ездит?
— Нет. Там что-то…
— Не лезь. Лучше молчи.
«Вот оно. Теперь я — звук в чужих головах. Опасный, нерезкий, но жгучий. И даже если я скажу правду — они услышат приказ».
Он вошёл в ординаторскую. Там было пусто. Только халат на спинке стула и чашка, где чай высох за полсуток.
Он сел.
«Назад нельзя. Даже если скажешь: „Я больше не хочу“. Уже поздно. Потому что ты теперь — уже в их журнале».
Он поднял трубку телефона, чтобы сделать фиктивный звонок. Просто чтобы чувствовать что-то своё. На другом конце никто не ответил. Только тишина и дыхание.
Он не повесил.
— Это Миргородский. Я не отказываюсь. Я просто… уточняю срок. Мне нужно знать, сколько у меня есть.
«Я не знаю, кто слушает. Может, никто. Но если слушают — пусть знают: я не бегу».
Он положил трубку. Встал.
— Работаем, товарищи. По поручению.
«Теперь я — не существо. Я — носитель. И если умру — они просто передадут дело другому. Это и есть бессмертие. В форме прокрутки».
Он открыл журнал назначений. Написал дату. Расписался.
Подпись дрогнула.
«Рука помнит страх, даже когда мозг его отрицает».
Он вытер каплю чернил пальцем.
— Вперёд. До конца.
* * *
Он стоял у умывальника в операционном блоке, холодная вода стекала с рук, оставляя на кафеле пятна, будто следы мыслей. В зеркале — не он. Лицо чужое, но подчёркнуто спокойное. Без страха. Без сомнений. Без прошлого. Всё, что было до — растворилось в Москве, пропитанной приказами и пеплом протоколов.
«Я не стоматолог. Я — механизм. Если я остановлюсь, он скрипнет. Если сломаюсь — он заменит. Я либо часть машины, либо в её пасти».
Он вытер руки полотенцем, посмотрел на пальцы: ровные, без дрожи. Никакой дрожи.
Вошёл заведующий хирургическим. Осторожно.
— Миргородский… Можно вас на минуту?
— Говорите.
— Там внизу — срочная. По линии НКВД. Указание — только вы. Личный список.
— Где бумаги?
— Уже у вас в кабинете.
— Хорошо. Через пять минут буду.
Он вышел без суеты. Каждый шаг — как пункт в инструкции. Пройти. Принять. Вмешаться.
«Если я откажусь — они найдут другого. Но не простят. А если приму — стану нужным. Не опасным. Нужным».
Секретарь переглянулся с санитаром. Тихо. Как на похоронах.
— Он что, теперь совсем главный?
— Он теперь… вхож. А такие или живут долго — или исчезают внезапно.
Он сел за стол, взял указание, пробежал глазами. Всё было в норме. Даже подпись — жирная, чёткая. Генерал-майор Сухов.
— Подготовьте наркоз. Полный. И введите сами. Без ординаторов.
— Так точно.
«Если что-то пойдёт не так — виноват буду я. Только я. Но это и есть моя точка контроля. Только личное — безопасно».
Он надел халат, затянул маску, поправил колпак.
Ассистент посмотрел на него с оттенком… нет, не страха. Тревоги.
— Товарищ Миргородский… вы уверены, что справитесь один?
— Уверенность — не роскошь. Это обязанность. Идите.
«Теперь я — слово. Не голос. Не мнение. Слово, которое исполняют».
Операционная ждала его — белая, тусклая, с едва слышным гудением ламп. Сердце не билось — оно двигалось. Как и всё в нём.
— Начинаем.
«Нет больше дороги назад. Только внутрь. Только вперёд. Только — сам».
Глава 122
Черновик реформы
Кабинет для совещаний напоминал перевёрнутый штаб осаждённой крепости. Большой тяжёлый стол — словно бронеплита, за которой можно укрыться от чужих решений. Бумаги лежали слоями, как осадок на дне бутылки с мутной водой: распечатки, чертежи схем, доклады и списки уволенных. Воздух был спертый, но не мёртвый — в нём гудела работа, как в трансформаторной будке. Окна запотели. На стекле капля растекалась медленно, как бы следя, не сбежал ли кто.
Мирослав вошёл без звука. Снял пальто, повесил на вешалку — с непривычной аккуратностью, будто там, у Кремля, его научили не шуметь одеждой. Глаза сотрудников поднялись почти одновременно, но не в знак приветствия. В них — ожидание. Нерешённое. Без резких эмоций. Он — тот, кто вернулся. Значит, его не расстреляли. Значит, теперь он вдвое опаснее.
— Садитесь, — коротко бросил он, проходя к своему месту.
Николай Смирнов передвинул кипу протоколов ближе к центру стола.
— Мы готовы.
Мирослав кивнул, не садясь сразу. Несколько секунд он смотрел на документы — как на шахматную доску, на которой все фигуры — его, но ход первый должен быть точным. Вдохнул. Выдохнул.
— У нас есть второй шанс. Теперь нужно сделать всё грамотно. Мы не можем позволить себе