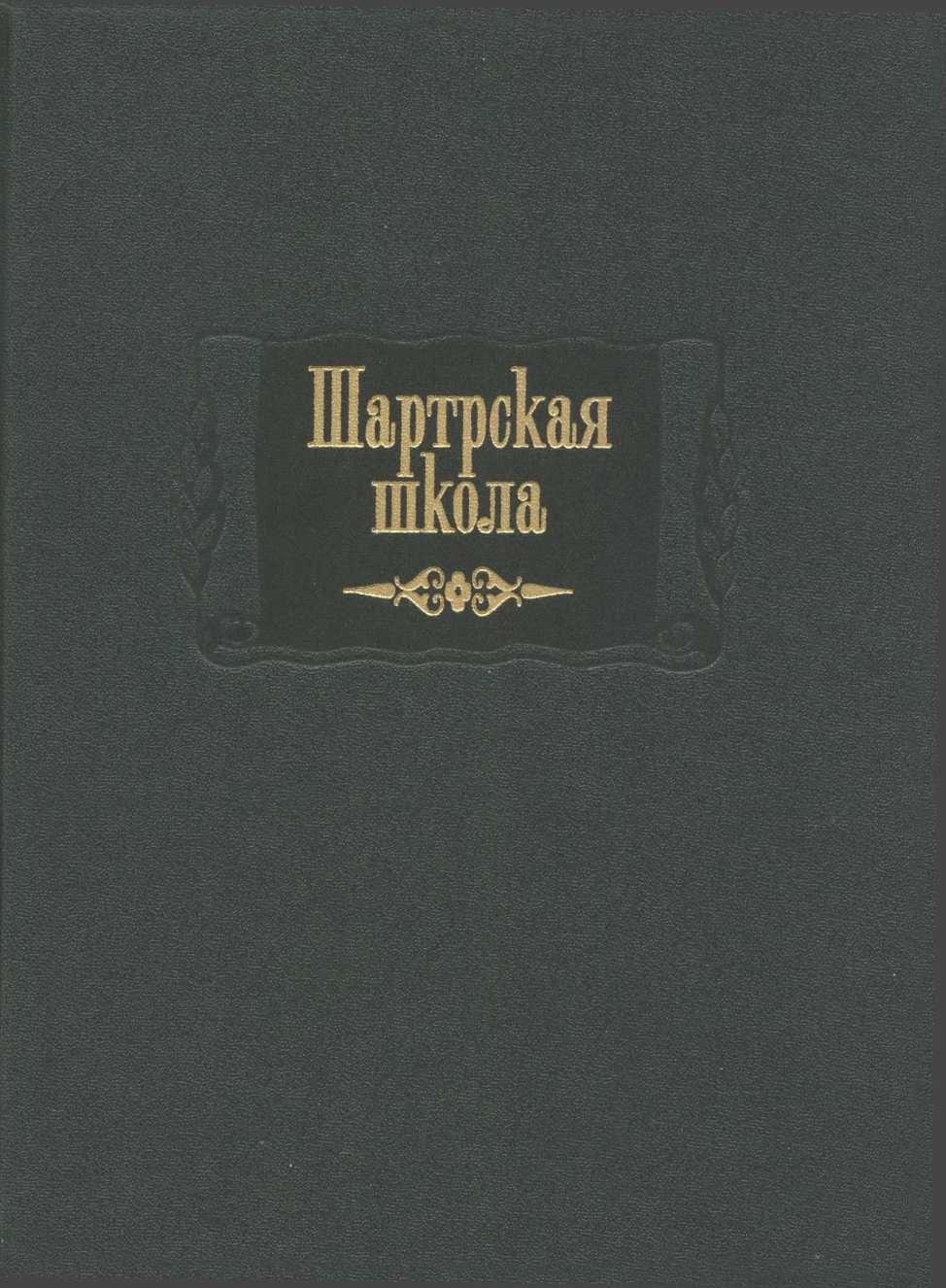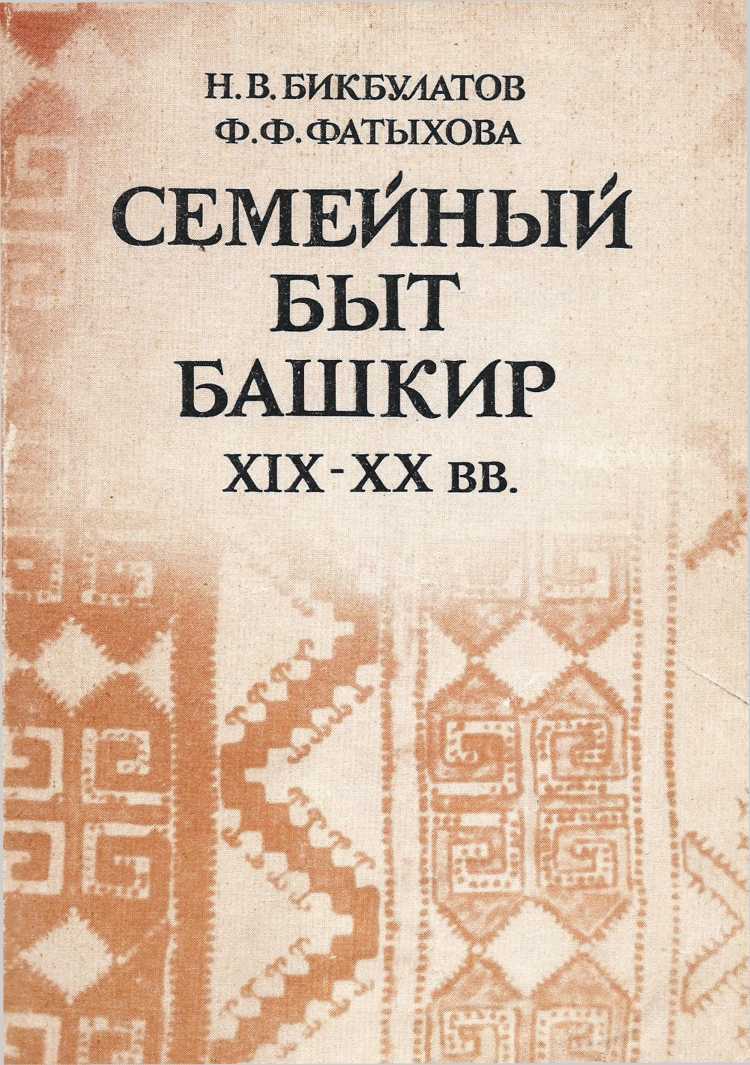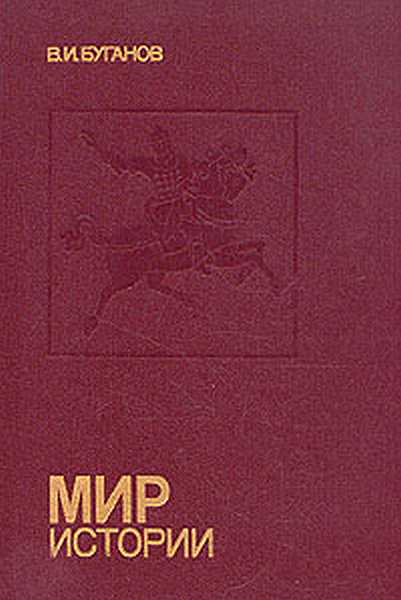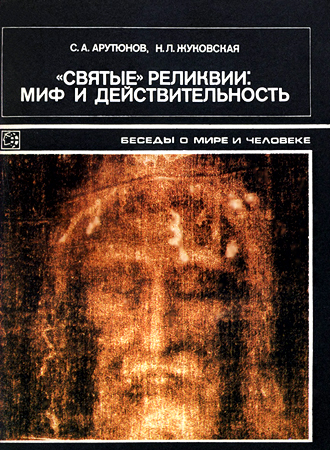class="p1">А о безбожных народах что и говорить! Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!
Но Курбский настаивал на своем праве обсуждать действия царя и осуждать их. В последнем своем послании к разоблачениям совести царя он добавил свой перевод из Цицерона. Апеллируя к учению римского сенатора о «естественном законе», свое заключительное послание Курбский, как и в первом своем письме, основывал на этической критике беззаконий Грозного. Отметим, что в этом последнем письме Курбского совесть становилась таким же универсальным и доступным каждому свойством, как естественный закон природы у Цицерона. После рекомендации изучить его, Курбского, перевод римского сенатора князь опять упрекал царя в нарушении божественного закона:
и остался ты по своему прескверному произволению в своей фараонской непокорности и в своем ожесточении против Бога и совести, всячески поправ чистую совесть, вложенную Богом во всякого человека, которая словно недреманное око и неусыпный страж бережет и хранит душу и ум бессмертный в каждом человеке.
Как видим, Курбский пытался воздействовать на Грозного не только христианским укором, но и «естественным законом» римлян, имперские амбиции которых вдохновляли московских царей[360]. В доводах Курбского естественный закон язычника Цицерона, позволяющий каждому человеку разделять добро и зло, истину и ложь, – это хорошо известное христианам явление – совесть.
Спор Курбского с Иваном Грозным обозначил определенный модус этического конфликта вокруг самодержавной власти. Настаивая на том, что царская власть от Бога, Грозный подчеркивал, что осуждать ее действия – значит осуждать божественно установленный порядок. На это Курбский возражал, что для гарантий соблюдения божественного порядка всем людям дана совесть и именно она заставляет человека, забывая страх, бороться с дьявольскими кознями, обличая их[361].
Судебная функция совести, на которую, собственно, и опирался в своем обвинении царю Курбский, очень важна для нас, поскольку в дальнейшем ей будет придано большое значение в Судебной реформе 1864 года. С этой точки зрения мы должны обратить внимание на то, что словари зафиксировали судебную суть совести в том числе и как действие, о чем говорят глаголы «совестить» и «совеститься».
«Совестить», «усовестить» относилось к воздействию на кого-то и означало «возбуждать в ком совесть; убеждать, приводить в раскаяние». Возвратный глагол «совеститься, усовеститься» подразумевал связь «чувства справедливости» и действия. Это отчетливо видно в первом значении глагола «совеститься»:
внутренним чувством справедливости убеждаться (соперник мой на силу усовестился и признал свою несправедливость).
Второе значение глагола «совеститься» трактовалось как «стыдиться» и употреблялось в форме «посовеститься» (он посовестился утруждать его частыми просьбами)[362].
Как видим, примеры словоупотребления в академическом словаре подчеркивали силу совести, которая направляла к правильному, справедливому действию. Потребность приспособления совести для государственных нужд была очевидна, и Петр закрепил это государственное притязание на совесть знаменитым указом о необходимости доносить о государственном преступлении, открытом на исповеди.
С помощью подобных методов могла быть нейтрализована потенциальная опасная критика по совести царской власти и ее учреждений, которая могла привести к признанию народного суверенитета. Ответом на него была «религия самодержавия», как назвала ее фрейлина Тютчева при Николае I (мы обсуждали это в первой главе). Основной догмат этой религии – связь всех царских решений с Божьим промыслом и отказ признать какой-либо еще «естественный закон» – был отчетливо обозначен еще Иваном Грозным. Перевод Цицерона он не удостоил ответом.
Проектируя Совестные суды, Екатерина II использовала совесть как полезное для государства чувство подданных. В таком понимании совести она, как уже упоминалось выше, скорее всего, опиралась не только на языковые средства, но и на примеры иных культур, в которых работали суды совести[363]. Здесь, конечно же, мы должны вспомнить о категорическом императиве Канта как о философском монументе величию деятельной неправославной совести, двигателе либерализма и капитализма[364]. Историк рецепции Канта в России А. Круглов показывает, что категорический императив не стал для русского образованного класса чем-то сенсационным, а воспринимался как часть довольно темной метафизики кёнигсбергского философа[365].
В отличие от неясных многословных Критик Канта, «Письма русского путешественника» Карамзина (1790) стали проводником русских читателей в мир европейской совести an sich. В своем травелоге Карамзин рассказал о встрече в Кёнигсберге с «отменно белым и нежным старичком» Кантом. Карамзин подробно описывал суждения Канта как примечательные и достойные всяческого уважения размышления великого ума Европы. Путешественник передавал их таким образом:
Говорю о нравственном законе: назовем его совестию, чувством добра и зла – но они есть. Я солгал, никто не знает лжи моей, но мне стыдно[366].
Далее в конспекте речи Канта Карамзин записал, что рациональное познание человека ограниченно и наука мудрецов невежественна в Промысле «Всевечного Творческого разума».
Слова Карамзина о Канте лишены подобострастия. С философской доктриной категорического императива русский путешественник обошелся как с кёнигсбергской достопримечательностью, не вдаваясь в рассуждения на ее счет. Сообщая читателю, что Кант «говорит скоро, весьма тихо и невразумительно», Карамзин закончил рассказ о Канте словами о жилище философа: «Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме… его метафизики»[367].
Далее в «Письмах русского путешественника» автором много раз упоминается совесть в ее практическом европейском понимании, например при описании встречавшихся на пути людей. Так, он одобрял восхваление совести как добродетели, будь то надгробия знатных и уважаемых граждан или песни невинных крестьянских девушек в Германии. Но туповатого буржуа-трактирщика в Лейпциге с его рассказами о том, как, не гоняясь за барышами, он живет со спокойной совестью, Карамзин изображал комически. Русский путешественник с иронией подметил, как «совестливый» трактирщик вдруг страшно перетрусил от раскатов грома, внезапно прервавших его надоедливую браваду.
Большое уважение и самый пристальный интерес у Карамзина вызвал суд присяжных (court of equity, более известный в русскоязычной литературе как «суд справедливости») в Англии. Он отмечал, что присяжные принадлежат ко всем сословиям, и их приговоры, продиктованные одной только совестью, всегда справедливы. Они основаны, по словам Карамзина, на некоем «темном чувстве истины», о котором путешественнику рассказывали много чудесных историй, подтверждавших справедливость решений присяжных. Так, в изображении Карамзина понятие совести в Европе конца XVIII века было вынесено за рамки религиозного дискурса и работало на поддержание порядка, причудливо облекаясь в сложную философскую теорию мирового порядка Канта.
Позднее, в 1802 году, Карамзин раскрыл перед российскими читателями еще одну грань обращения к совести в практичной Европе. Как критик просвещения и бдительный просветитель своих