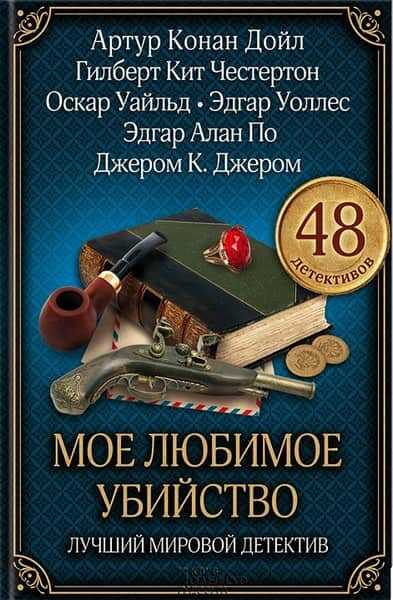христианами и заботились о ней не меньше, чем она заботилась о них. И она думала, что так будет длиться вечно.
Когда преподобный зашел к ним в первый раз, было утро пятницы. Одетый во все черное, он был высок и худ, как пугало, с впалыми щеками и острым подбородком, как у змеи. Он стоял перед парадной дверью маленькой скромной усадьбы, прямой как палка, и Мэри отметила, что он выше ростом, чем кто-либо другой в поселении Маунт-Холли, даже выше, чем Андерс, здешний кузнец. Он отвесил ей медленный глубокий поклон, этот странный человек-скелет, а когда выпрямился, Мэри увидела, что улыбка у него такая же серая и сальная, как и его глаза. Он не был старым, он был просто… жухлым. Он стоял, и грубая плотная ткань его плаща трепетала на ветру, будто пытаясь оторваться от него.
– Я преподобный Саймон Фиппс и пришел, дабы принести слово Божье хозяину и хозяйке этого дома, – сказал он, протянув руку, которую Мэри не взяла. – А кто вы, моя милая?
– Мэри Кейн, – ответила она, глядя куда угодно, только не в его ужасные липкие глаза. – Служанка Гэндерсов.
Вдалеке за его спиной, за полями, она видела людей; заслоняя глаза от яркого солнца, они шли по проторенным тропам в сторону городка. Ей ужасно захотелось оказаться среди них или еще где-нибудь, да где угодно, лишь бы не стоять сейчас здесь, в этих дверях, под его ползучим взглядом.
– Я очень рад познакомиться с вами, мисс Кейн, – проговорил он, произнеся ее имя так, будто это была ложка меда на его языке. – Не могли бы вы привести сюда вашего хозяина? Я бы хотел с ним поговорить.
Мэри молча кивнула и, повернувшись, пошла искать мистера Гэндерса, надеясь, что у нее получится держаться подальше от этого странного пастора, нагоняющего на нее жуть.
Затем, когда он уже собрался уходить, Мэри услышала, как он задал Гэндерсам последний вопрос.
– Ваша служанка… к ней часто захаживают гости-мужчины?
Вскоре визиты пастора стали регулярными, по меньшей мере он являлся раз в неделю, а иногда и чаще. Он приходил проповедовать свою благую весть и бросал плотоядные взоры на Мэри из-за углов, когда думал, что она этого не замечает. Он читал отрывки из Библии, показывал детские фокусы (он называл их «забавными играми»); он даже помогал с домашней работой: колол дрова и разводил огонь в очаге с помощью этого своего клятого черного топора с кремнем, вделанным в лезвие. Гэндерсы нравились ему, а он им, хотя время от времени ей казалось, что она видит, как на лице хозяина мелькает выражение – чего? недоверия? беспокойства? – когда пастор говорил. Но Саймон Фиппс был пастором, а пастору полагалось выказывать определенное уважение, какими бы ни были личные чувства. Разве не так?
Вскоре Саймон поднял тему женитьбы. Ему очень нравится их служанка, однажды солнечным утром признался он Гэндерсам. Улыбаясь своей мертвенной кривой улыбкой, он говорил о жизни, в которой она, Мэри, вовсе не хотела участвовать, о доме, в котором она не хотела жить, о детях, которых уж точно не хотела рожать. Но он толковал об этом, как будто это дело решенное: конечно же, Мэри и он поженятся. Какие еще у нее есть варианты? Какие еще у нее есть поклонники?
Мэри терпела это. Она терпеливо улыбалась каждому его двусмысленному замечанию. Она вежливо отстранялась от его длинных жадных пальцев, когда он пытался молиться вместе с ней. Она ждала, когда он поймет, что из его сватовства ничего не выйдет, и старалась избегать всех знаков его внимания.
Какое-то время этого было достаточно.
Пока не оказалось, что это уже не так.
Когда он припер ее к стене на достаточно долгое время, чтобы попросить ее руки, Мэри сделала самое худшее из всего, что только можно было себе представить.
Она сказала ему «нет».
Она постаралась сделать это доброжелательно, даже мягко, но ее отказ был недвусмыслен и тверд. Она не сказала: «Не теперь» или «Я не уверена». Она не колебалась. Она сказала «нет». Нет, она не передумает. Нет, она его не любит. Нет она никогда не сможет его полюбить.
Она не выйдет замуж за преподобного Саймона Фиппса ни в этой жизни, ни в любой другой.
Но он все равно продолжал приходить, неделя за неделей, под предлогом заботы о душах Гэндерсов. К их чести, они поддерживали ее решение. Как-то раз вечером они отвели ее в сторону и сказали об этом, хотя миссис Гэндерс это, похоже, и огорчило. Они выразились ясно – она, Мэри, может жить так, как считает нужным, сколько бы Фиппс их ни просил и ни уговаривал воздействовать на нее. Они не станут принуждать ее передумать.
Когда преподобный Фиппс пришел к ним со своей проповедью в последний раз, она увидела, что что-то внутри него сорвалось с цепи, что-то злобное, исходящее слюной, то, что до сих пор с трудом держалось в рамках и рвалось наружу. Она поняла это по тому, как он смотрел на нее своими мертвыми бесцветными глазами. До сих пор она была для него то ли некой диковинкой, то ли наваждением, теперь же она стала для него едой.
Для этого не было какой-то особой причины, не было подоплеки, которая объяснила бы эту перемену, значит, он всегда был таким. Быть может, голоса в его голове стали слишком громкими, и он больше не мог не обращать на них внимания. Быть может, огонь, который он так любил зажигать, в конце концов охватил и его собственное сердце. Что бы это ни было, это ясно читалось в выражении его лица, в его движениях, в том, что он говорил, и в том, как он это произносил. Саймон Фиппс окончательно и безвозвратно потерял контроль над собой, и было видно, что обратной дороги у него нет.
Ей повезло, что она не спала, когда он пришел их убивать. Она не могла заснуть полночи, ворочаясь в постели из-за кошмаров, которые потом не могла вспомнить. Наконец, сдавшись своей бессоннице, тихонько оделась и пошла на кухню, чтобы сделать себе чаю.
Она стояла у плиты, кипятя воду, когда услышала, как кто-то выбил одно из окон. Поначалу она подумала, что это плод ее воображения – продолжение ночного кошмара, тем более что за этим звуком последовала гробовая тишина.
Но затем люди на верхнем этаже начали умирать.
Сначала погиб мистер Гэндерс, судя по истошным воплям миссис Гэндерс, которые быстро затихли. Затем настала очередь детей, которые были зарублены