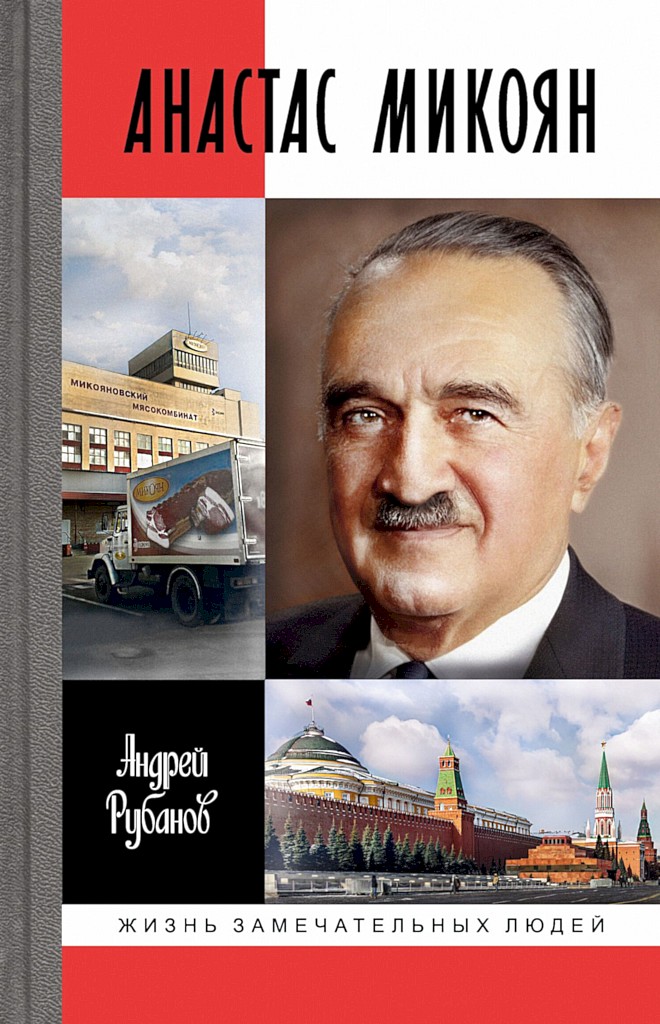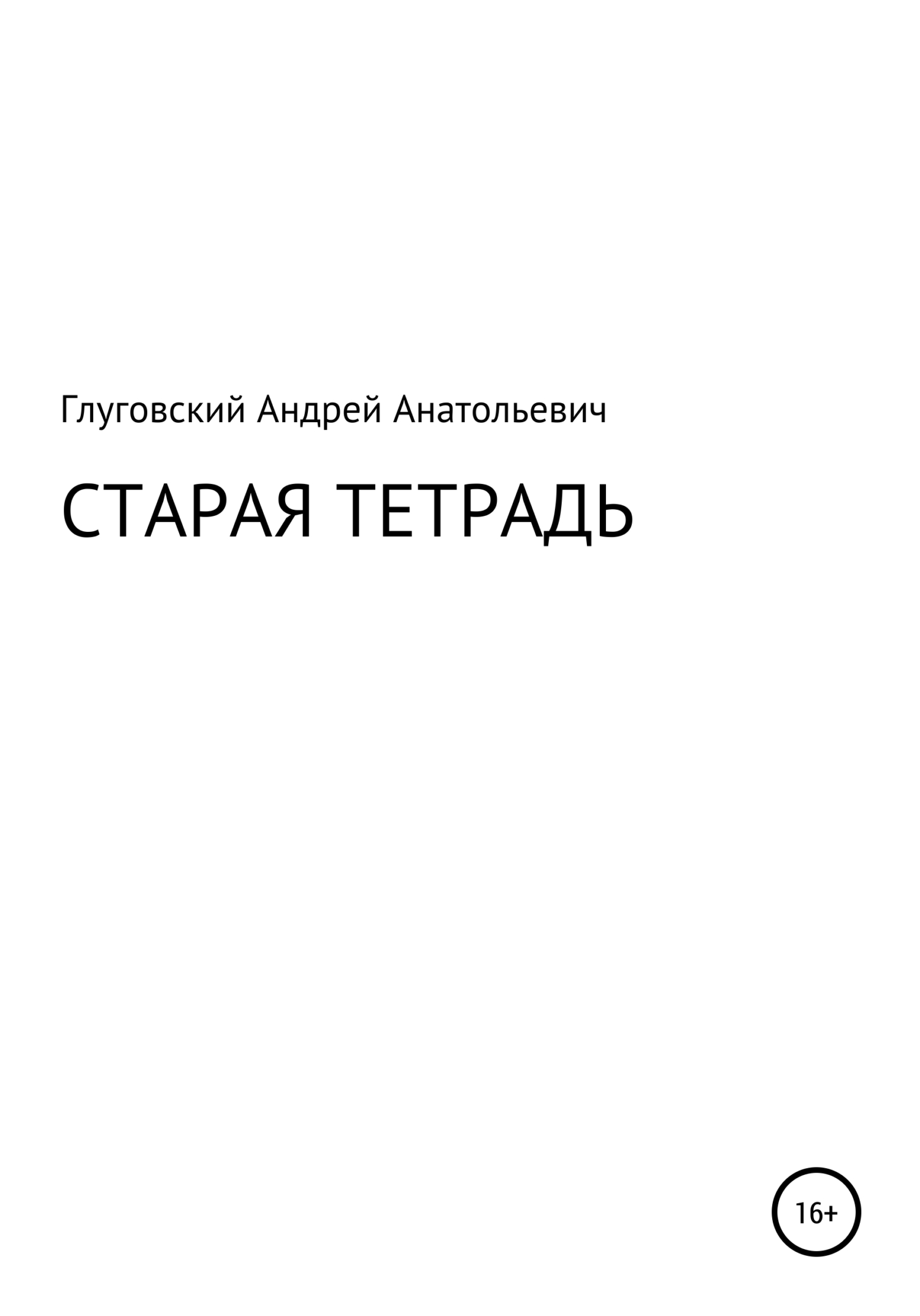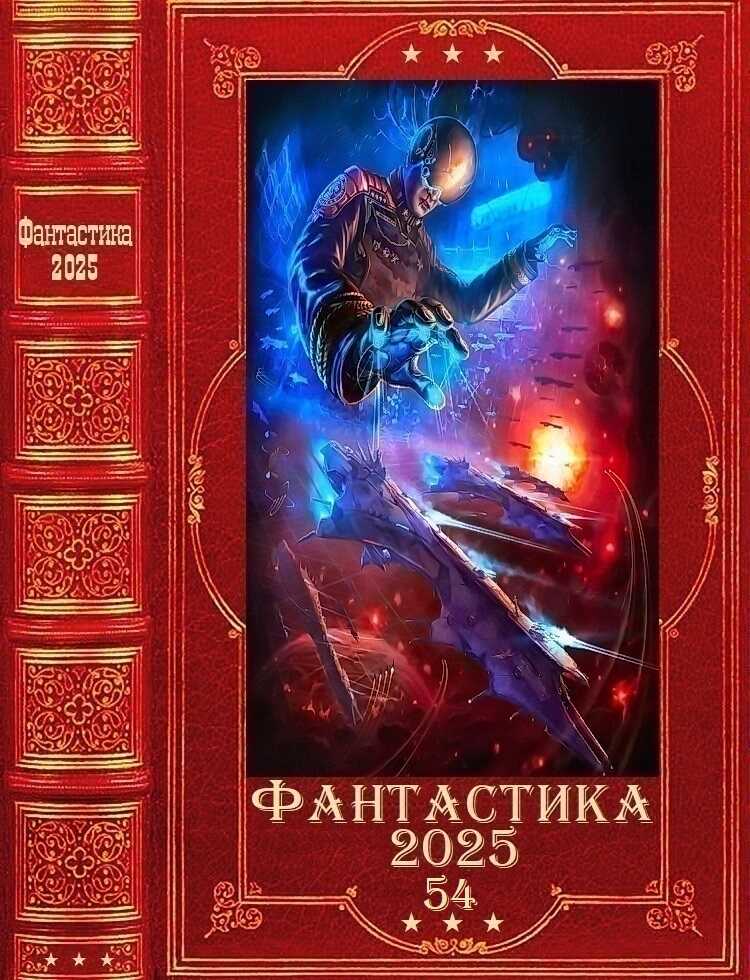ссылка была одним из лучших периодов его жизни.) Из ссылки он вернулся в ореоле мученика, гонимого властями; потом он напишет знаменитое «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке».
Отбыв в эмиграцию, поэт сохранил ореол пострадавшего, но при этом, парадоксально, антисоветчиком не сделался, и публично не произнёс ни единого плохого слова про Советский Союз. Известен его афоризм: «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы».
Зато Солженицын стал профессиональной жертвой и самым известным антисоветчиком. Ему удалось выгодно продвинуть статус «русского тюремного писателя» на западный рынок, превратить в бренд, в ходовой товар, и на этом всемирно прославиться.
Впрочем, западная общественность узнала о существовании сталинских лагерей вовсе не от Солженицына, а гораздо раньше.
Ещё в середине тридцатых в Англии и США вышли книги советского учёного-ихтиолога Владимира Чернавина, специалиста по вылову рыбы в северных водах. В 1930 году Чернавин был арестован, сидел на Соловках, затем в Кандалакше, – и оттуда сумел сбежать в Финляндию, причём вместе с семьёй; перебрался в Англию, работал в Британском музее, и опубликовал несколько книг воспоминаний, гневно разоблачающих большевистскую систему. Книги Чернавина имели ходкие названия – например, «Я говорю от лица всех молчащих советских заключённых».
И сам Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом» («Четвёртое дополнение» от 1974 года) прямо признаётся: «Сейчас тут, на Западе, узнаю́: с двадцатых годов до 40 книг об Архипелаге, начиная с Соловков, были напечатаны здесь, переведены, оглашены – и потеряны, канули в беззвучие, никого не убедя, даже не разбудя. По человеческому свойству сытости и самодовольства: всё было сказано – и всё прошло мимо ушей».
Из этого мы можем сделать вывод, что лагерные разоблачения самого Солженицына прогремели не потому, что были исключительными по материалу и качеству изложения, – а потому, что появились в нужный момент, оказались востребованы политической конъюнктурой.
Одновременно и сам писатель принял отважное решение сменить касту: из племени художников, отверженных, – попытался перейти в племя жрецов, проповедников, учёных, знаменитых, привечаемых, высокооплачиваемых. За свой переход он дорого заплатил: отдал свой дар, разменял на славу «пророка в своём отечестве» – а таких, мы знаем, не бывает.
Советская тюремно-лагерная литература началась «Иваном Денисовичем» – но им же и закончилась. Далее на протяжении 24 лет, с 1962 года до 1986-го, тюремно-лагерная тема пребывала под спудом; тюрьмы, лагеря, зоны упоминались сквозь зубы, редко. Скажем, в романе Василия Ардаматского «Суд», вышедшем в 1980 году, есть две страницы, посвящённые тюрьме и её нравам.
Замалчивание тюремно-лагерной темы сопровождалось серьёзными достижениями в деле установления тотальной социалистической законности. История человечества не знает более декриминализированного и безопасного общества, нежели СССР семидесятых годов. Организованный преступный мир, разумеется, уцелел (он непобедим), но сильно сдал позиции. Официально преступность в СССР считалась полностью изжитой, ликвидированной. А нет преступности – нет, значит, и тюрем, и выпускать книги о тюрьмах незачем.
Михаил Горбачёв начал свою реформаторскую деятельность с лозунгов «ускорения» и «гласности». Цензура резко смягчилась. С 1987 года на советских читателей обрушился целый вал литературы, ранее запрещённой, – в том числе и тюремной.
С того времени и до настоящего момента нам доступна любая информация о любом периоде истории русской тюремной, каторжной, лагерной системы.
Два главных тюремных классика русской литературы ХХ века – Солженицын и Шаламов – придерживались диаметрально противоположных взглядов на тюремно-лагерный опыт. Солженицын полагал, что тюрьма закаляет, укрепляет дух, что опыт сидения в узилище делает человека сильнее. Шаламов же, наоборот, считал такой опыт разрушительным, растлевающим. Известны многие язвительные высказывания Шаламова в адрес Солженицына: сидел мало, сидел в щадящих условиях, поспешил обменять тюремный опыт на славу и деньги. Чью сторону занять в этом споре – каждый решит сам.
Протопопа Аввакума тюрьма не растлила. И хотя в «Житии» и в письмах он подробно описывает тяжелейшие условия, в которых пришлось ему провести долгие годы, – всё же его книги направлены не против тюрьмы, в них нет пафоса, обличающего карательную «систему». Задача Аввакума была шире и больше, чем просто социальная критика: он пытался спасти церковь, остановить раскол, предотвратить разрушение дома божьего. И то, что его воззвания доносились не из тёплой горницы, а из смрадной ледяной норы, придавало словам протопопа огромный вес.
Слово, доносящееся из-под земли, мы слышим лучше, чем крик площадного глашатая. Так уж мы устроены: нам важно слышать и звон пропаганды, и стон из-под глыб.
7. Конец Никона
Поссорившись с царём Алексеем, патриарх Никон в 1658 году уехал из Москвы в недавно построенный под Москвой (по его же, Никона, инициативе) Ново-Иерусалимский монастырь. Долго, целых семь лет, сидел он там, ожидая, что царь простит его и снова призовёт к себе, – но не дождался.
После того, как на Вселенском Соборе его низложили и извергли из священства, Никон стал простым монахом. Ему приказали покинуть Ново-Иерусалимский монастырь и отправили в ссылку – в Вологду, в Ферапонтов Белозёрский монастырь. Подробности его 10-летнего пребывания там описаны в монографии И.Бриллиантова «Ферпапонтов Белозёрский монастырь» (1899).
«В 1673 году, – сообщает Бриллиантов, – наличность монастырской казны доходила до 4 рублей 9 алтын и 2 денег и даже до одного рубля 19 алтын. Такая скудость казны объясняется неисправностью как обедневших крестьян-плательщиков, по целым годам не вносивших оброков, так и других должников, не плативших долгов по своим кабалам (долговым распискам). В иные месяцы расход превышал приход, и монастырский казначей вынужден был занимать деньги на текущие расходы у патриарха Никона. (…) В 1666 году, по приезде в Ферапонтов патриарха Никона, братия в челобитной государю так жаловалась на бедность монастыря: “монастырь у нас бедный и скудный и погорел без остатку и келейным покоем и стесненье великое и хлебу недорода – вызяб весь, а крестьян твоего жалованья за монастырём 321 двор, и то в разных городах”. В письмах Никона государю постоянно встречаются указания на скудость обители: “Жизнь в Ферапонтовом монастыре скудная, – пишет Никон, – вотчинка за ним небольшая и крестьянишки обнищали до конца”. Самое пребывание в Ферапонтове опального патриарха, который содержался, правда, при пособии окрестных монастырей, невольно вовлекало монастырь в лишние расходы, служившие большим бременем для оскудевшей обители».
В 1676 году, после смерти царя Алексея, Никон добился перевода в Кирилло-Белозёрский монастырь.
Какие же средства требовались для содержания сосланного Никона, если их приходилось собирать по всем вологодским монастырям?
Вот цитата из другого документа, приводится по тексту книги К.Кожурина:
«…велено давать ему, Никону, из белозёрских монастырей запасов в год: 15 вёдр вина церковного, 10 вёдр романеи, 10 ренского, 10 пуд патоки на мёд, 30 пуд мёду-сырцу, 20 вёдр малины на мед, 10 вёдр вишен на мёд, 30 вёдр уксусу, 50 осетров, 20 белуг, 400 теш межукосных,