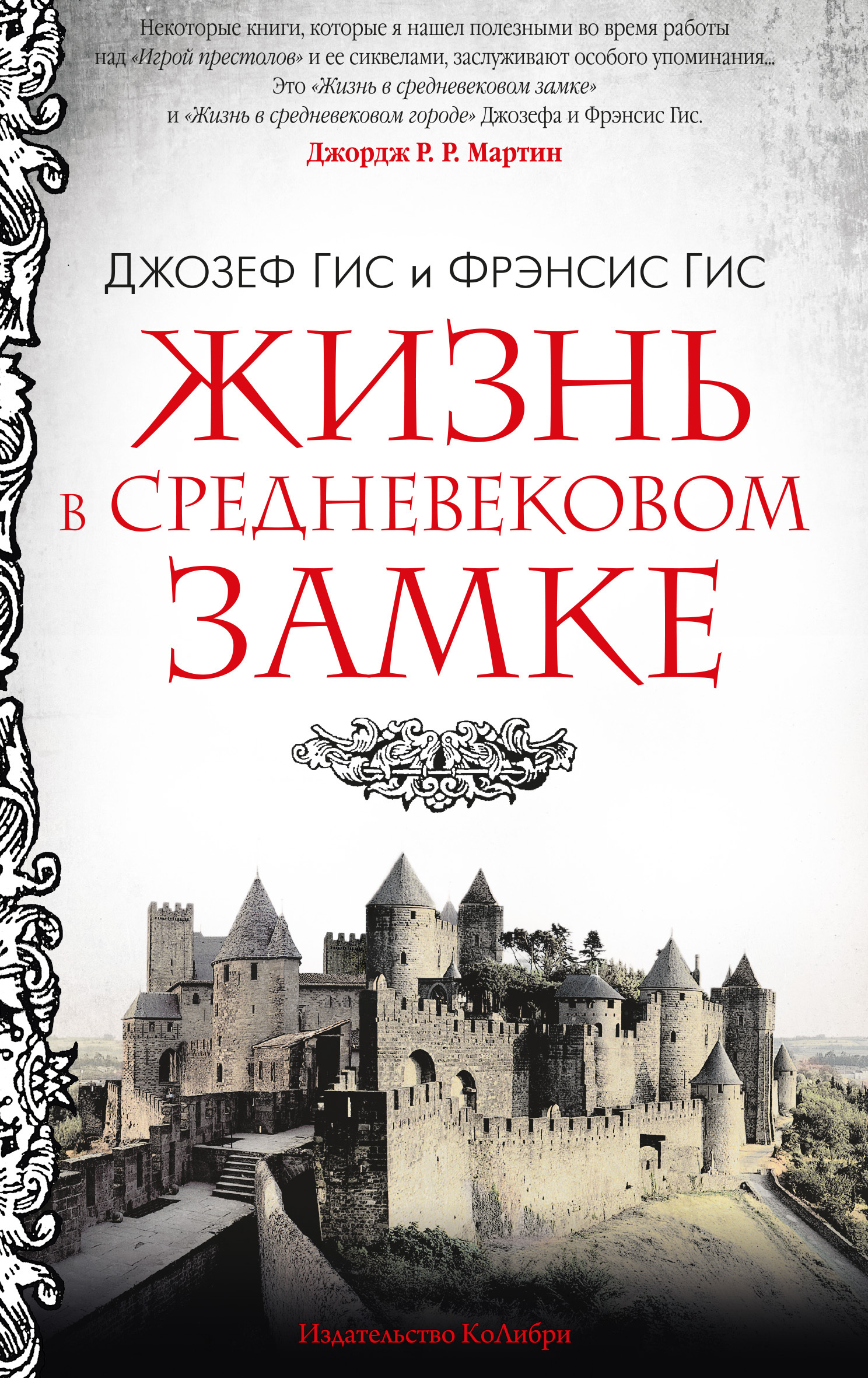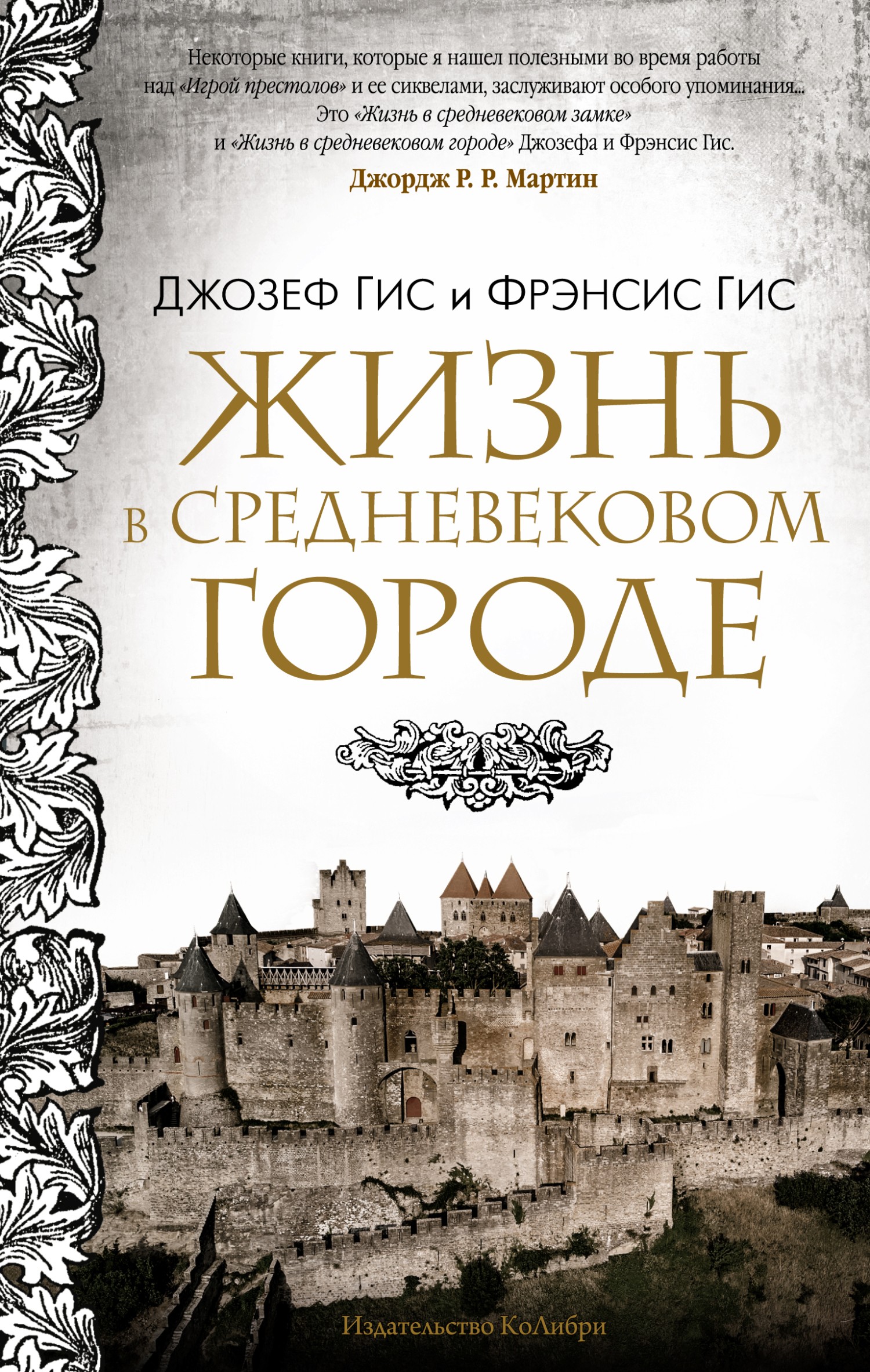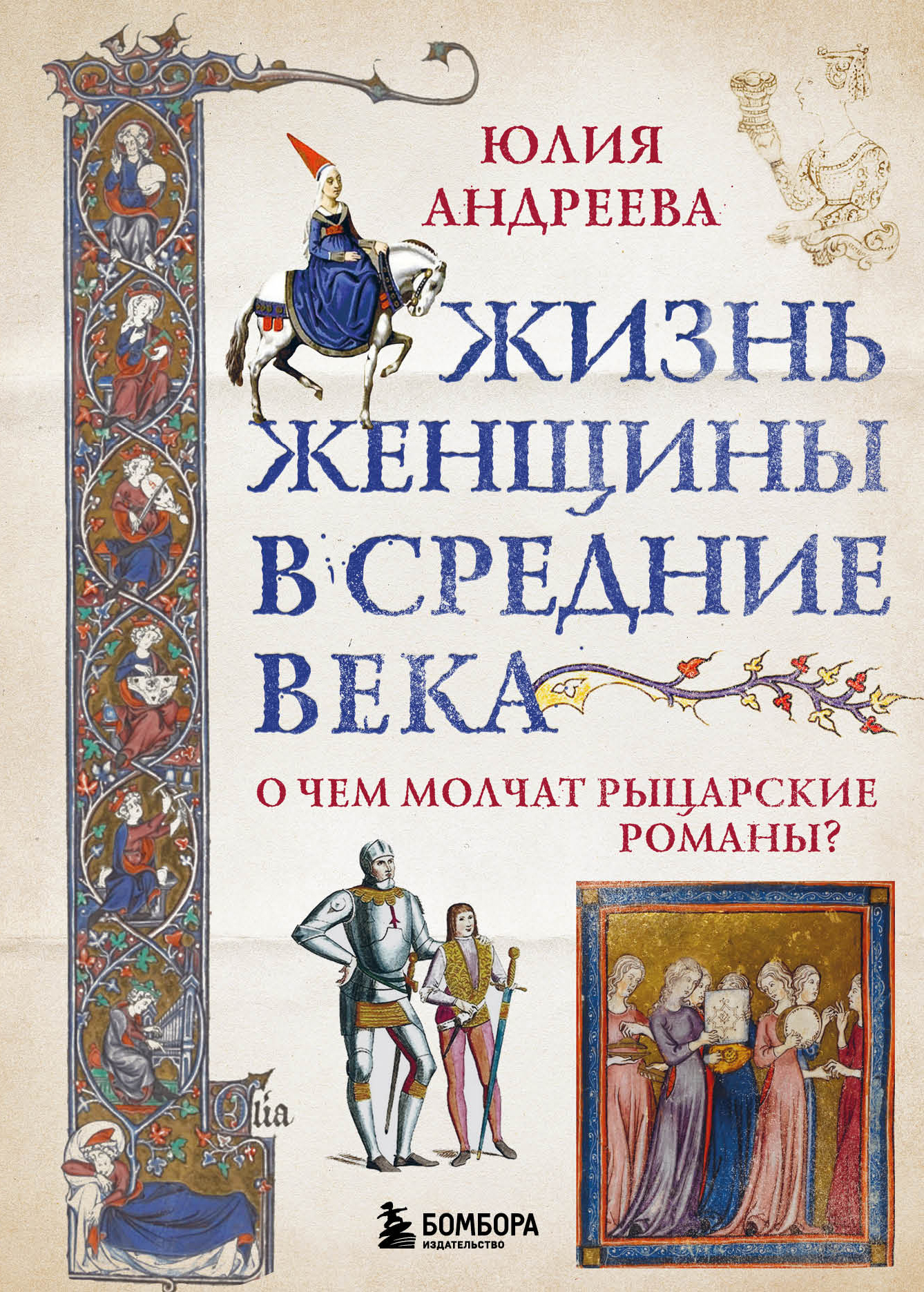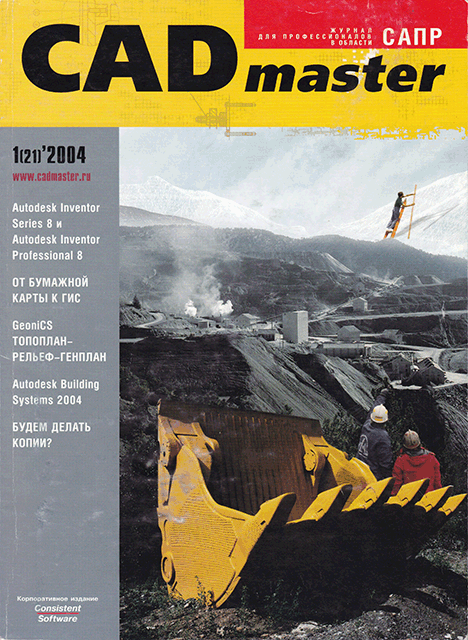которого входили наделы, арендуемые крестьянами на условиях внесения денежной или натуральной ренты и (или) отбывания барщинных повинностей. Собственно деревня нередко существовала отдельно от поместья, но в случае Каксхема их границы совпадали. Далее речь пойдет главным образом именно об этом местечке, но для восполнения лакун будут привлекаться факты и о других сельских поселениях средневековой Англии.
Когда мы слышим слово «лорд», перед глазами встает фигура крупного собственника-феодала. Однако владельческие права на поместье Каксхем со второй половины XIII века принадлежали не физическому лицу, а целой корпорации: оксфордскому Мертон-колледжу, его ректору и профессорам. Дело в том, что в 1230-х годах тогдашний вотчинный хозяин, некий бонвиван по имени Ральф Чендуит, крепко повздорил с настоятелем Сент-Олбанского аббатства и был отлучен от церкви. Некоторые подробности этой истории сообщает нам Матвей Парижский. По его словам, однажды в Вестминстерском дворце лорд Чендуит в присутствии множества уважаемых людей произнес глумливую речь: «Поглядите-ка, да это же монахи Сент-Олбанса! Вы только полюбуйтесь на них! Они так долго, упорно и деятельно отлучали меня от церкви, что вот он я – здоровый, сытый и до того раздобревший, что едва помещаюсь в седле»226. Но божественное Провидение и повышенный холестерин покарали чревоугодника: его хватил удар, и он скоропостижно умер. Наследовал ему сын Стефан – придворный, близкий друг Ричарда Корнуоллского, который, живя на широкую ногу, активно прибегал к услугам еврейских ростовщиков и накопил такое количество долгов, что поместье пришлось продать. Новый владелец, лорд-канцлер Уолтер де Мертон, пожертвовал свое приобретение в пользу основанного им в Оксфорде «дома ученых».
В центре деревни стояла церковь XII века. Рядом – обнесенная стеной резиденция лорда, составлявшая ядро домениальных земель (то есть угодий, относившихся к собственному хозяйству сеньора). На территории находился господский дом, кухня, пекарня, маслодельня, сараи и амбары, коровник и свинарник, голубятни, отхожее место, сеновал, солодовня и пруд для разведения рыбы. Что касается деревенских жилищ, то они в основной массе были разбросаны по южному берегу небольшой речки, и лишь несколько лачуг крестьян победнее ютилось напротив. Узкая, вытянутая полоса застройки напоминала изолированный островок, который со всех сторон обступало волнующееся море пахотных земель.
Соотношение свободных держателей и феодально-зависимых (вилланов) в английских деревнях заметно варьировалось. Вотчины с преобладанием вольного элемента могли вплотную соседствовать с теми, где костяк составляли вилланы. (Первые нередко были наследием датской колонизации, вторые – восходили к обычаям более ранних англосаксонских поселений.) На начало XIII века в Каксхеме зафиксировано несколько свободных держателей, которые платили фиксированную денежную ренту и не несли почти никаких барщинных повинностей, но уже к 1290-м годам такой крестьянин-фригольдер всего один: Роберт Эйт Грин. В его хозяйстве – два дома (один из которых он сдавал в субаренду) и 14 акров земли. Родовое имя ate Grene[9] указывает на первоначальное место жительства семьи: дом располагался близ деревенской площади, известной как Нижняя лужайка (Lower Green). По меркам деревни Эйт Грины считались сверхзажиточными. Согласно оценочной стоимости держаний, они были в 1,3 раза богаче самых состоятельных вилланов. Когда сын Роберта, Джон, женился на Матильде – дочери и наследнице Хью Фрелонда из Уоткомба, семья смогла приобрести значительный надел в соседнем Уотлингтоне. Кроме того, Эйт Грины владели несколькими быками и целой отарой овец: по-видимому, основным источником дохода для них являлся сбыт шерсти.
Другим сравнительно обеспеченным семейством были Бе́ниты, чей дом с прилегающим двором и садом стоял в центре деревни, вплотную к церкви и неподалеку от господского двора. Роберт Бенит принадлежал к числу наиболее уважаемых жителей деревни и в течение двадцати трех лет исполнял обязанности старосты, то есть следил за порядком в поместье. Судя по всему, Бениты вели вполне сносное существование: в Каксхеме у них имелось несколько пахотных полос общей площадью полвиргаты, то есть около 12 акров, разделенных между тремя полями. (В других подобных деревнях зажиточными считались крестьяне, сосредоточившие в своих руках от 15 до 26 акров земли.) При этом Бениты относились к категории вилланов, то есть лично несвободных: они подвергались поборам, всячески ограничивались в правах, а главное, были обязаны лорду барщинными повинностями – принудительным даровым трудом. В среднем работать на господина приходилось два дня в неделю; в страдную пору нагрузка возрастала. В XIII веке эти повинности получили денежную «тарификацию». Поденная работа оценивалась следующим образом: рытье канав, молотьба, возка и разбрасывание навоза – 1 пенс (в период жатвы 1,5 пенса); косьба – 2 пенса; извозные повинности, выполняемые на барской земле227, – 1,5 пенса (в период жатвы 3 пенса). Установление расценок позволяло производить «продажу» работ, то есть заменять их денежными платежами. Сеньор в таком случае прибегал к использованию наемного труда или подряжал собственную дворню.
Низшей прослойкой каксхемского населения была крестьянская беднота (коттеры). Типичные представители этой малоимущей группы – батрак Генри ле Драйвер и его жена, имевшие мизерный клочок земли и хижину на северном берегу упомянутой речки. Чтобы снискать себе пропитание, им приходилось наниматься к более состоятельным соседям или сеньору. По своему правовому положению коттеры смыкались с вилланами. Вообще говоря, бедность не обязательно предполагала крепостной статус: в некоторых деревнях крестьяне с невысоким достатком, наряду с зажиточными, формально не были закрепощены – другое дело, что в отсутствие земли такая свобода мало чего стоила. В Каксхеме коттеры арендовали землю по договору, в котором прописывались индивидуальные условия. Тот же Генри ле Драйвер с женой, например, держали свой надел пожизненно. Они платили небольшую денежную ренту и периодически несли барщинные повинности: в «горячее» время жатвы от них требовалось до шести дней работы на домениальных угодьях. Кроме того, в некоторых случаях коттеры занимались заготовкой и скирдованием господского сена; им же при необходимости поручался перенос загона для овец в другое место (для более равномерного распределения навоза). Площадь наделов пахотной земли, на которых они вели собственное хозяйство, не превышала 3–4 акров.
Каково бы ни было имущественное положение и юридический статус крестьянина, его ближайшей помощницей оставалась жена. Крестьянскую женщину можно назвать правой рукой мужчины в гораздо большей степени, чем высокородную даму, пусть даже активно помогавшую супругу управлять замком. Начать с того, что крестьянка всецело делила с мужем повседневные тяготы земледельческого труда, – это то, что, так сказать, лежит на поверхности. Помимо этого, существовал огромный объем внутрисемейных хозяйственных обязанностей: не только обычная стряпня и уборка, но и заготовка продуктов и одежды для домочадцев. Крестьянка доила коров; замачивала, трепала и чесала лён; кормила кур, уток и гусей; стригла овец; делала сыр и масло; обрабатывала семейный огородный надел. Иногда она еще занималась прядением и