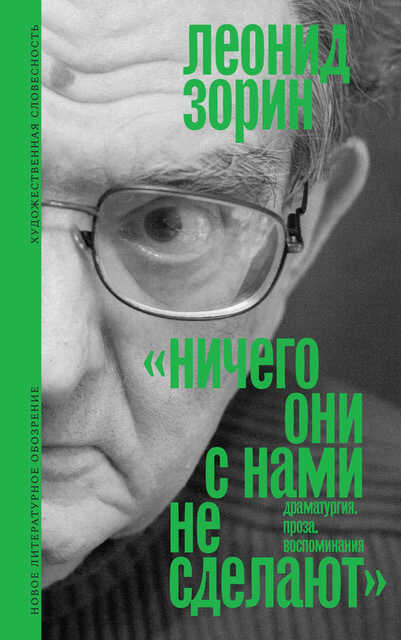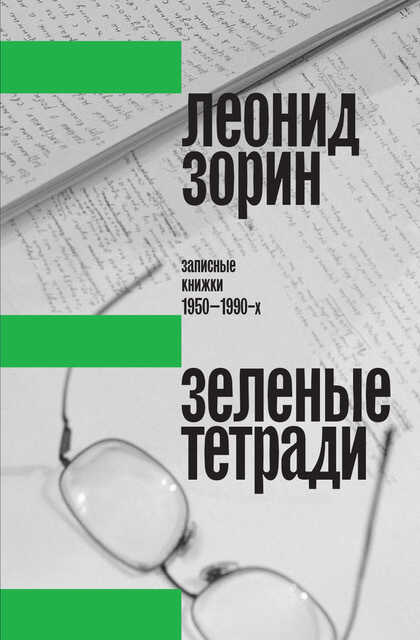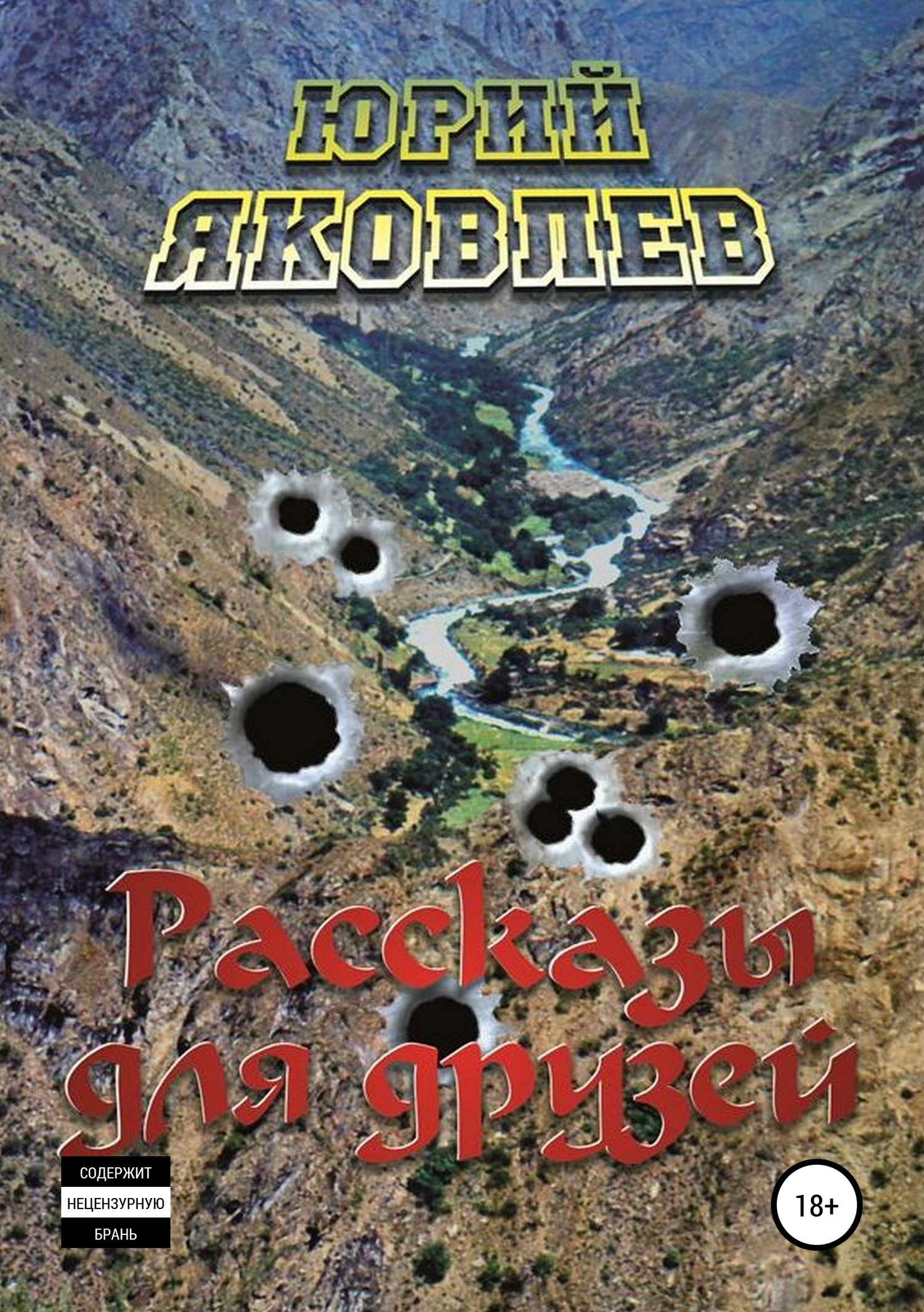Фисиному ребенку – дядя. Другой вариант: сестра и тетка. А я кто буду собственным детям? Одновременно отец и дед. Сраму-то! Головы не поднимешь. Понял: пора уносить нам ноги.
Вернулся и застаю картину: обе лежат и спят, умаялись. А спят-то, между прочим, в обнимку. Стою и гляжу на них на обеих, на бедных моих залетевших баб, впору и самому зареветь.
Но ты – не выпь, чтобы выть в лесу до самого рассвета. Нет права. За ночь восстановись, днем действуй. Списался со своими ребятами, вместе учились, – закорешились. Подставили плечо, помогли, в скором времени прислали мне вызов.
Сложили вещички – ехать так ехать. А в сердце тоска – то место любо, где счастье видел, здесь его было больше, чем за всю мою жизнь.
В районе меня чуть не побили. Можно понять – и сам ухожу, и женщин увожу, а они их все-таки до меня выручали. В общем, прошел как лесной пожар, оставил после себя головешки.
И вот оказались мы все в Надыме. Рассказал там про свои обстоятельства. Так, мол, и так, вот такой наворот. Софье Петровне надо рожать, а муж ее скоропостижно помер. Ясное дело, мы опасаемся, чтоб потеря не отразилась на родах. Куда ни кинь, а женщина в возрасте. Посоветовали сменить обстановку. А тут еще и жена, как на грех, точно в таком же положении.
Сочувствуют. Нелегко мужику. Досталось ему по полной программе.
В скором времени наша семья увеличилась. Сперва родила Анфиса Сережку, а следом Софья Петровна – Сашеньку. Не доносила почти два месяца. Но вроде обошлось – уцелел.
Живем, обживаем новое место, растим потихоньку племянника с дядей. Племянник на месячишко постарше, ну да пока им это без разницы.
Усмешка на бледных губах Рудакова, едва появившись, сразу же тухнет. Чинарик, зажатый в пальцах, крошится. Он медленно прячет его в карман.
– Недолгая была передышка. Год-полтора – и под откос. Сломалась наша Софья Петровна. Она почти сразу все просекла, но долго виду не подавала. Держалась из последних силенок, меня подбадривала, пошучивала: «Есть такая бабья примета: грудь чешется – милый по мне скучает». С груди у нее все началось. Потом уже, когда всем стало ясно, шутки кончились: «Ничего не поделаешь, за все хорошее люди платят. Трудно мне мой поскребыш дался».
Быстро ее сожрала хворь. Сколько хирурги ее ни резали – все только хуже. Потом сказали: «Домой возьмите, хватит ей мучиться». Приходит Фиса, от слез опухшая. «Иди, – говорит, – зовет попрощаться».
Вошел я к ней, присел на кровать. Смотрю на нее, узнать невозможно – где ее стать, ее красота? И все передо мной будто встало – какой я увидел ее в первый раз: литая, спелая, сила такая – кажется, что сносу ей нет. Тот вечер, когда ко мне подошла, – ноги не держат, глаза не смотрят и – еле слышно: «Зятек, помоги…» Куда все делось, куда пропало?
Она мой взгляд поняла, улыбнулась: «Вот, стала я сухая трава – ни коню корм, ни конюху подстилка…»
Все шутит, а я от этих шуточек совсем чумной, язык не ворочается. Она все видит и говорит: «Да не смотри ты так на меня, бурундучок ты мой разнесчастный. Все у нас не напрасно было. Сашечку оставляю. На память. Заместо себя».
И шепчет: «Спасибо».
Я говорю: и тебе, Соня. Прости, если что было не так…
Единственный раз назвал ее Соней. И тут она взяла мою руку, поцеловала, махнула ладошкой: иди… И отвернулась к стене.
Вышел, провел по лицу пятерней, а оно мокрое, как гриб.
Пьем молча, не скупо, но не хмелеем. Похоже, что на обском ветру кедровый орешек не так напорист.
– Схоронили, – говорит Рудаков, – и точно я себя потерял. Спать перестал, скриплю зубами, корчусь, как береста на огне. Если бы не Анфиса – запил. Не зря тогда посулила в Дворках: женись – не пожалеешь. И правда – она меня за волосы вытащила.
«Не стланик, так не стелись». Все верно. Нашему брату нельзя пластаться.
Усыновил я родного сына, стал он из дяди младшим братом, и сразу перебрались в Матлым. От всяких ненужных разговоров. Опять новосел, в который раз…
И ведь не от склонности – от судьбы. Вообще-то я скажу вам по опыту: тяжелый вес человеку вреден. Трудней укореняется в почве. Самое легкое дерево в мире растет на африканском болоте, а делают из него плоты. Амбач называется. Так и в жизни: будешь легче – и будет легче.
Он неожиданно смеется:
– Недостижимая мечта.
Держим паузу. Каждый молчит о своем. Где-то, почти на другой планете, Москва, из которой я кинулся в путь, поверив тому, что дорога лечит. В дороге не будешь гадать, как сложатся эти шестидесятые годы, куда они тебя заведут.
Негромко вздохнув, Рудаков говорит:
– Живем теперь, можно сказать, по-людски. В прошлый раз, когда ездил в Тобольск, взял своих пацанят с собой. Пусть глянут на городскую жизнь. Сходили мы с ними в сад Ермака, поели мороженого, послушали музыку, потом – в кино, гулять так гулять.
– Сами по городу не томитесь?
– Долго там не могу. Отвык. И толкотня, и воздух не тот. Безжизненный и неразличимый. В лесу все дышит, и все по-своему. Ствол – возрастом, корни – землей, листья – ветром, мох дышит севером, хвоя – свежестью. Лес пахнет гуще, чем океан. Что говорить – сила да воля. Лесотехнику в городе нечего делать. Сам выбирал себе биографию.
Мало-помалу белесый свет неба меркнет, и мир вокруг темнеет. Волна за кормой урчит, будто жалуясь, что до Губы еще далеко – пока мы до нее доберемся, много еще утечет воды.
К Матлыму «Чулым» подошел уже ночью. От берега подгребла моторка, она и забрала Рудакова.
2003
Ветераны
Рассказ
Сидели, обнявшись, на дачной платформе, ждали электричку в столицу. Хмелея от одури летнего полдня, время от времени целовались. Платформа была совсем пуста, только на соседней скамейке дремал низкорослый паренек.
Она была в белом сарафане, он – в белой сорочке и белых брюках.
– Мы с тобой одного цвета, – сказала она.
– И одной крови, – добавил он, целуя ее в голое солнечное плечо.
– Слушай, не заводи меня, – сказала она. – Будь человеком.
Он еле слышно пробормотал:
– Скорей бы уж добраться до крыши.
– Никто, кроме нас, не едет в Москву, – вздохнула она. – Даже обидно.
– Еще бы. Ехать в такое пекло! Нет дураков.
– Так мы дураки?
– У нас проблемы жизнеустройства. Тут уж ничего не поделаешь.