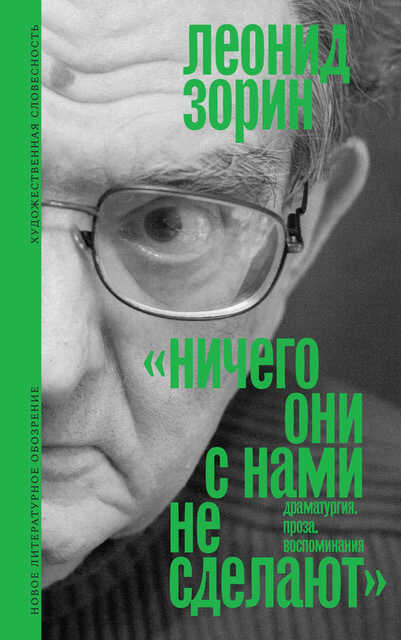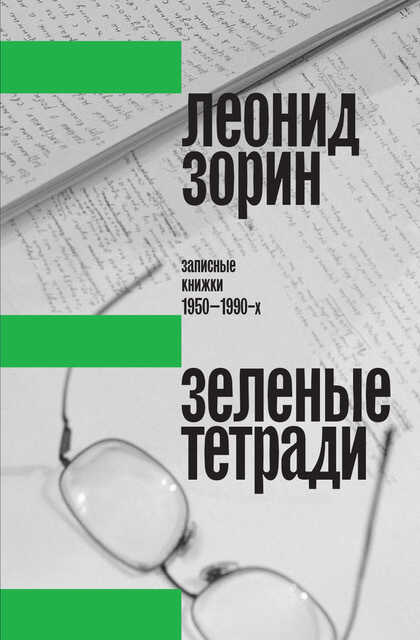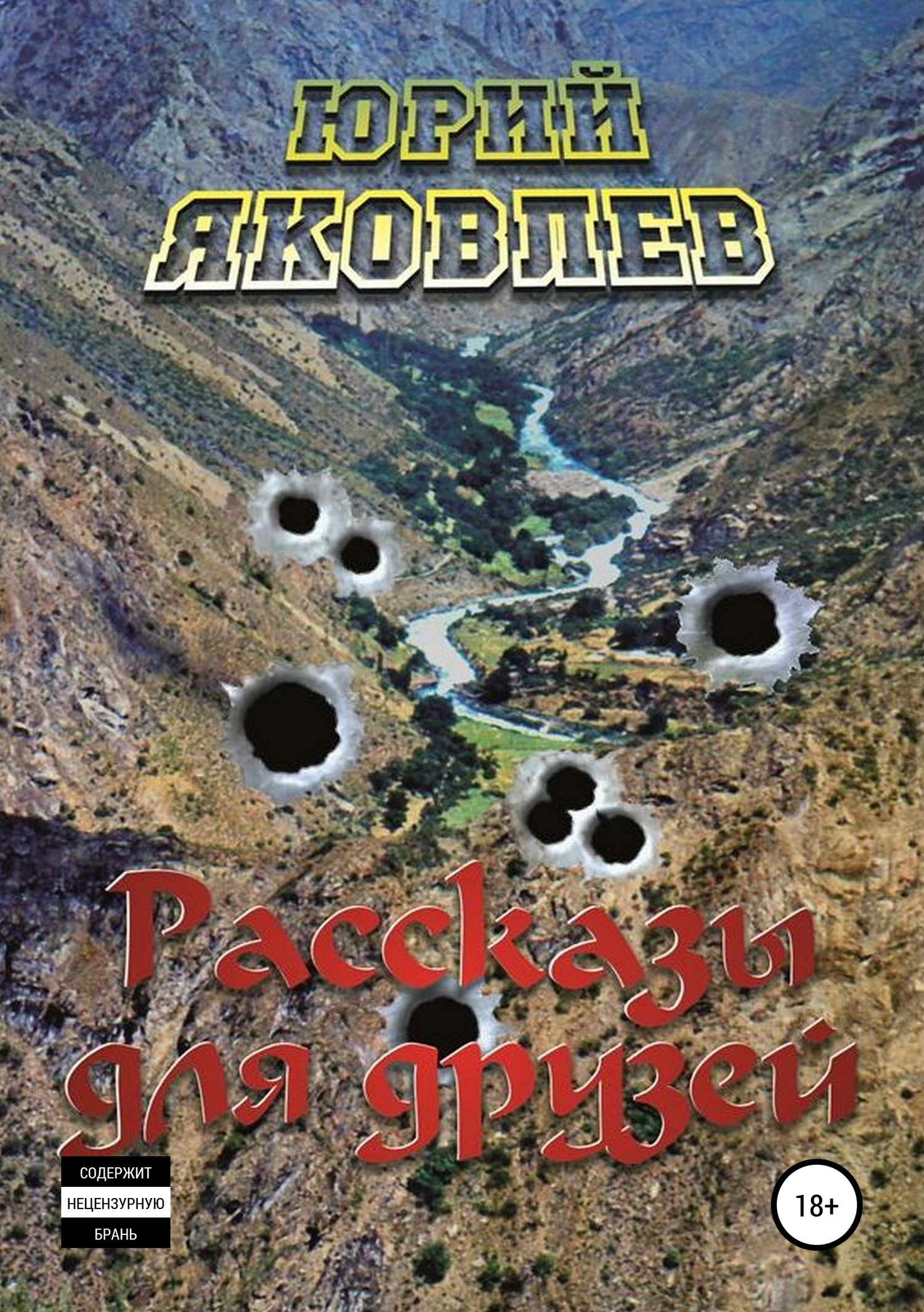class="p1">– Лобзаешь меня, а парень смотрит.
– Пусть смотрит. Он молодой – поймет. Все-таки мы молодожены.
– Какие уж мы молодожены, – сказала она. – Сегодня у нас десятый день законного брака.
– А в самом деле – десятый день! Не молодожены, а ветераны. Ветераны семейного фронта.
Она кивнула:
– Страшно подумать. Рукой подать до серебряной свадьбы. Ну вот, ты опять меня заводишь.
– Я нехороший. Разве я спорю?
– Два дня шокировал мою мать, теперь – ни в чем не повинного юношу. Она еще радовалась, бедняжка, – зять у нее из хорошей семьи.
– По-моему, за эти два дня я ее покорил окончательно.
– Само собой, покорил, покорил… Ну потерпи, раз уж ты ветеран… Совсем как я – терпеть не умеешь…
– Так не умеешь?
– Ох, кажется – нет. Но мне простительно… Наша соседка знаешь как о себе говорит: я женщина сырая, подверженная… А ты мужчина и покоритель. Мужчина рожден, чтобы терпеть.
– Чисто славянская философия. Где эта чертова электричка?
Парень на соседней скамье медленно потянулся и поднялся. Когда он встал, то оказался совсем коротышкой – похож на подростка. Только лицо было взрослым, опытным. Одной рукой он держал сигарету, другую словно стерег в кармане.
– Здравствуйте. – Он подошел к скамейке, где обнимались молодожены. – Хотел сказать, и я – ветеран.
– Хорошее дело, – одобрил муж.
– Я – ветеран горячих точек, – сказал паренек и сладко зевнул. – Ждем электричку? Уже идет.
Все яростней, все неудержимей, все ближе стала греметь земля. И вдруг из-за поворота, выгнувшись и сразу же распрямившись, явилось зеленое долгое тело поезда.
– Ну наконец. Дождались экспресса! – воскликнула молодая жена.
– А он не ваш, – сказал паренек.
Он что-то добавил, но стук и грохот уже поглотили слова и звуки.
Поезд замер. Он был почти пустым. Ветеран прошел в головной вагон, сел у окна, против движения, с интересом разглядывая платформу. Электричка вздрогнула, задышала и через силу сдвинулась с места, быстро наращивая скорость.
Молодожены остались сидеть на той же скамье, рука в руке. С каждой секундой все меньше и меньше становились две белых фигурки, вот они уже почти не видны, неразличимы – два белых пятнышка, каждое с дырочкой в груди.
* * *
Когда он услышал, что внук убит, он точно разом окостенел, вмерз в лед, как первобытное чудище.
Внук приезжал к нему погостить – встретил ее, влюбился с лету, до немоты, до невменяемости.
– Вот оно и пересеклось, – беззвучно выдохнул Владимир Сергеевич.
Всю ночь он сидел не шевелясь, силясь найти главный ответ. К утру уже отчетливо знал: судьба наконец встретилась с жизнью, и жизнь его изошла, закончилась.
2001
Палка
Рассказ
Чем дальше и дольше твое путешествие, тем чаще скрещиваются частицы, составившие пейзаж и сюжет. Кажется, что ничем не схожи, разные по сути, по весу, но словно ищут одна другую и, странным образом, обретают. И то, что недаром так много значило, осело, укоренилось в сознании, и то, что давно и легко унялось, вдруг стягивается в один пучок. Нежданная магнитная буря. Смешиваются звуки и краски, предметы и лица, слова, мгновения, и обнаруживается их связь.
В тот день он был грустен. В его глазах, всегда ободряющих собеседника, мне вдруг почудилось незнакомое и непонятное выражение – не то виноватость, не то растерянность.
И разговор наш был тоже странен. Не то что не клеился, но не выстраивался в нечто осмысленное и цельное. Перескакивали с темы на тему, не зацепившись ни за одну. То обсуждали последнюю новость, какой-нибудь слух, несусветную чушь, то неожиданно забирались в слишком мудреные лабиринты. Заговорили об очередности движущих мотивов и сил. Он заявил, что, безусловно, Платон был прав: идея понятия предшествует самому понятию.
– Не только Платон, – сказал я кисло, – наши вожди-материалисты ей подчинили все на свете – прошлое, настоящее, будущее, и жизнь на земле, и нас с тобою. Жаль только, что их идея – варварская.
– Я знаю, ты остроумный малый, – вздохнул он, – и все же я убежден: идея судьбы предваряет судьбу. Поверь мне, я знаю это по опыту.
Домой он собрался раньше обычного. В углу прихожей стояла палка, весьма привлекательное изделие. Обвитый серебряным ободком коричневый стан со склоненной шейкой. Мне доставляло удовольствие в свободную минутку взглянуть на безупречную текстуру. Стоит всмотреться – и различишь спрессованную слоистую стружку. Ломаные золотистые полосы – следы преображения дерева в произведение искусства – плавно сбегают сверху вниз.
Он спросил меня:
– Где ты ее раскопал?
– В комиссионном магазине. В Риге. Достаточно давно.
Я видел, что он не в своей тарелке, но все еще по привычке резвился:
– Ты можешь назвать мне идею палки?
Он поморщился, потом произнес:
– Идея еще одной ноги, недостающей человеку.
Он повертел палку в руках:
– Занятно, кому она принадлежала?
Я сказал:
– Какому-нибудь коммерсанту, процветавшему при президенте Ульманисе. Так и вижу, с каким самоуважением он шествовал, на нее опираясь, в воскресное утро в Домский собор. Там после службы играл органист, откуда-то из-под самого купола слетали божественные звуки. Потом он прогуливался по улицам, к обеду возвращался домой.
– Что ж было дальше?
– Дальше, естественно, материализовалась идея. По просьбе латышских крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции мы выгнали господина Ульманиса, принесли социальную справедливость. Бедняга коммерсант разорился, почувствовал, что силы исчерпаны, и в скором времени успокоился в могиле на лютеранском кладбище. После войны его вдова, оставшись без средств к существованию, снесла эту палку в комиссионный.
– А далее являешься ты. За палкой.
– Именно так и было. Почуял, что она – на комиссии.
В начале пятидесятых годов Рига была уже разноплеменной. Центр был многолюдным и пестрым, заполнившая его толпа казалась собранной с бору по сосенке. И все же, после всех перемен и потрясений, город хранил еще магию своей длинной истории – воздействие старых камней было сильным.
– Хочу попросить у тебя эту палку, – сказал он. – Грустная необходимость.
– В чем дело?
Он ответил не сразу. И снова мелькнула в его глазах эта оленья беззащитность.
– Просто недавно я попытался сжать пальцы на левой руке в кулак, и ничего у меня не вышло. Видишь? – Он показал ладонь, пальцы отказывались повиноваться, белые, будто вытекла кровь.
Я пробормотал неуверенно:
– Пройдет.
Он покачал головой:
– Вчера и нога забарахлила. Наверно, из чувства солидарности.
Он все еще продолжал посмеиваться. Я промолчал. Мне не хватило ни собственного легкомыслия, ни тем более его твердости. Все с той же виноватой ухмылкой он озабоченно проговорил:
– Достала Отечественная война. Достала все-таки, что ты скажешь… Дала отсрочку на тридцать лет и, видимо,