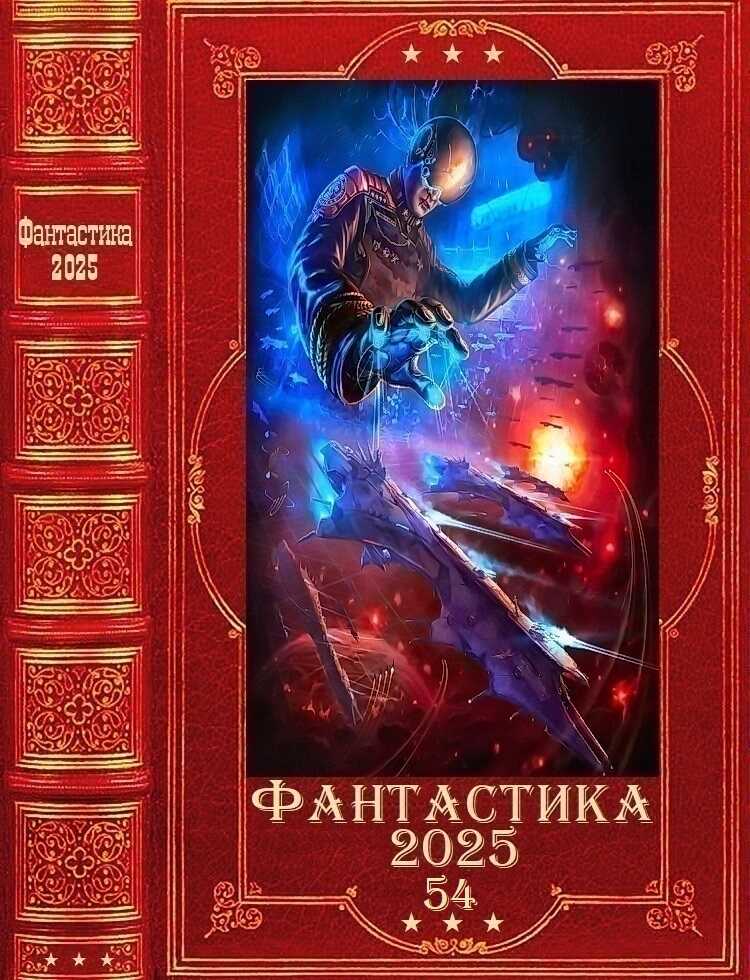или иной мере осознавалось. Ни для кого не были секретом межэтнические трения на бытовом уровне, существенные перекосы в экономическом развитии отдельных союзных республик»[50], как и существовавшая в советском обществе этническая ксенофобия, одним из факторов распространения которой стал кризис и перенаселение городов в 1930–1960-е годы[51]. После смерти Сталина вплоть до начала 1960-х гг. существенно меньше становится условных кавказских сюжетов, а украинских, напротив, – значительно больше.
Четвертый этап подразумевает анализ идеологического дискурса, деконструкцию идеи автора или «темача»-редактора. «Крокодил» изначально – идеологическое издание, любые его элементы обязательно несли идеологическую нагрузку. Скажем, условные среднеазиатские сюжеты очень часто включали шутки о неработающих мужчинах, бездельничающих в чайхане, в то время как их жены убирают хлопок в совхозе.
То, какие этносы и в каком качестве визуализировались, далеко не случайно. Так, значимое отсутствие или «невидимость» Севера, Сибири и Дальнего Востока в официальной карикатуре определяется еще и тем, что значительный процент населения «сибиряков поневоле» составляли заключенные ГУЛАГа и ссыльные поселенцы.
«– Постой, мужики. А мы здесь все одной национальности?» Рис. В. Полухина. «Крокодил», 1989. № 33. С. 2.
В отличие от этнических образов Кавказа и Средней Азии, которые играли довольно важную роль в идеологической работе, роль народов Сибири была куда скромнее. Народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (внешне неразличимые в советском визуальном дискурсе) оставались экзотическими дикими туземцами на низшей ступени этнической иерархии, не включенными в поступательный процесс социалистического строительства.
Излюбленный экзотический «грех» Кавказа – традиция умыкания невест – стал своего рода советским мемом и в фельетонах, и в иллюстрациях разного эмоционального градуса, повлияв и на творчество Леонида Гайдая («Кавказская пленница», 1967).
Среди бережно хранимых журналов было немало юмористических, которые Гайдай, понятно, особенно ценил. С детства он зачитывался «Крокодилом», «Бегемотом», «Смехачом», «Красным перцем» и многими другими подобными изданиями. (Обложки и карикатуры именно из этих довоенных журналов появятся в гайдаевском альманахе по мотивам Зощенко «Не может быть!».)[52]
Пятый этап качественной деконструкции визуального текста включает анализ персоналии художника, изучение его индивидуального стилистического языка. Скажем, обаятельные и смешные персонажи «карикатуриста для самых маленьких»[53] Виктора Чижикова (например, грузинский шашлычник-хапуга) совершенно не вызывают праведного гнева как расхитители социалистической собственности, в отличие, скажем, от героя «Боевого карандаша» В. Меньшикова на сюжет В. Суслова – кавказского спекулянта на рынке, буквально до нитки обобравшего интеллигентного ленинградца.
На шестом этапе мы деконструируем позицию художника и зрителя, пытаемся понять, насколько зритель включен в изображаемый сюжет. Интересно, что иногда количество визуальных упоминаний в большей степени зависело от личностного фактора. Так, половина карикатур с молдавской тематикой опубликована в конце 1980-х гг., когда начал работать молодой талантливый молдавский иллюстратор Владимир Курту, активно использовавший близкие ему этнические образы.
Седьмой шаг предполагает поиск визуальных аналогий или оммажей. Так, дружеский шарж И. Игина к 50-летию со дня рождения Расула Гамзатова (25/1973) включал знакомую каждому курильщику картинку всадника с пачки «Казбека» и самого юбиляра в образе сияющего солнца, милостиво освещающего горную седловину. В дружеском шарже 1979 г. к юбилею заслуженного художника Эстонской ССР Хуго Хийбуса художник Х. Валк придал юбиляру черты невероятно популярного среди советских молодых интеллигентов «старика Хэма» – Эрнеста Хемингуэя.
Как и в Средние века, образы добра и зла, своих и чужих выстраивались именно через визуальные каналы[54]. Во многом это было связано с функциональной неграмотностью целевой аудитории: даже в позднесоветский период лишь 17–30% читателей были способны адекватно интерпретировать тексты[55].
Двойственная природа «Крокодила» и его акцент на визуальном, по сути, сделали журнал точкой репликации и ретрансляции культурных мемов[56] своего времени. Здесь обыгрывались ключевые исторические события, культурные персонажи, фольклорные образы и архетипы. Именно поэтому в центр внимания нашей работы мы поместили иллюстративный материал, который, на наш взгляд, гораздо важнее текстовой составляющей «Крокодила». Визуальные материалы в принципе дают более сложную картину, когда речь идет о закрытых тоталитарных обществах[57].
Кроме того, есть еще один немаловажный аспект: несмотря на надзор Главлита[58], редакторов и «темачей», усиленный самоцензурой, иллюстрация, тем более карикатура, все равно оставалась пространством относительной авторской свободы, особенно по сравнению с текстовыми материалами. Сам жанр карикатуры, построенный на инверсии, всегда оставлял достаточно пространства для интерпретации авторского послания читателем.
При этом художники были вынуждены далеко не отрываться от реальности, чтобы сохранить узнаваемость повседневных образов.
В фокусе должен был находиться негатив, каковой надлежало упаковать таким образом, чтобы он походил на реальность, и чтобы читатель находил ответы на возникающие к ней вопросы, но одновременно не подрывал картину, производимую первыми полосами газет и соцреализмом[59].
Эта концептуальная и художественная двойственность, с одной стороны, затрудняет работу с источником, но с другой – позволяет получить материал о тех сторонах советской жизни, о которых не принято было писать в прессе. Хотя в историческом сообществе карикатура еще порой вызывает скептические комментарии («писать историю СССР, имея в качестве основного источника журнал „Крокодил“, почему-то никому в голову не пришло»[60]), ситуация постепенно меняется. Уже публично признается, что
…пренебрежение сатирическим журналом «Крокодил» серьезно мешало изучению советской экономики. В авторитарных государствах именно сатира часто является наиболее достоверным источником экономической информации[61].
В последнее время материалы из «Крокодила» активно привлекают и к социоэкономическим исследованиям[62], не говоря уже об истории повседневности[63] или спорта[64]. Однако мы в первую очередь сделали акцент на двух темах, еще не получивших должного освещения: национальной политике и маргинальных аспектах культуры повседневности.
Естественно, что цель данного исследования – рефлексия повседневности сегодняшней.
История – это путешествие в другой мир, и она должна служить тому, чтобы мы изменились, перестали заниматься только самими собой и по меньшей мере осознали свое место в ней[65].
И в данном случае влияние визуальных образов, сформированных у нескольких советских поколений, трудно переоценить. Для своего времени именно «Крокодил» стал своеобразной фабрикой мемов[66], формирующей стереотипы и паттерны поведения, фреймирующей взгляды на мир. Картина мира, сформированная крокодильскими иллюстраторами, до сих пор жива, несмотря на то, что она могла казаться примитивной.
Ниночка положила на стол перед Валеркой и Юриком груду цветных и растрепанных журналов «Крокодил». Валерка с любопытством полистал верхний журнал. Карикатуры там были забавные: тощие кричащие генералы в фуражках с высоченной тульей; наглые солдаты в касках и черных очках; толстые банкиры во фраках, с котелками на