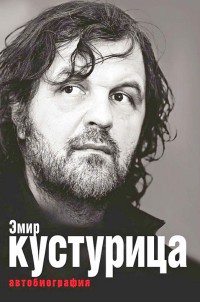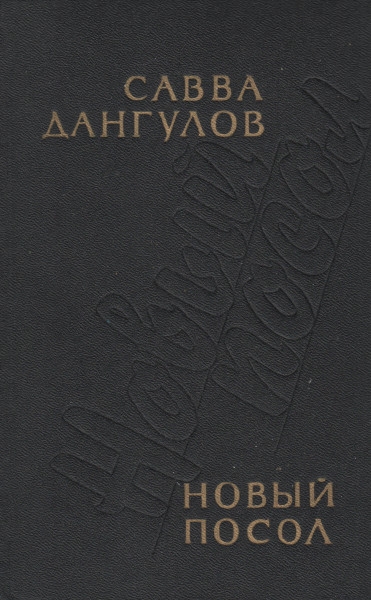и вся она сжалась и как-то постарела за эти несколько мгновений. «Можешь благословить своего сына на подвиги…» Если бы это сказал не родной брат, а посторонний человек, она, вероятно, вспыхнула бы, стала бы горячо возражать, спорить. Ведь речь шла о ее единственном сыне… Но это говорил ее брат, и потому старое сердце матери сжалось от боли и страха. Силы покинули ее. Спрятав лицо в смуглые узкие ладони, она заплакала в голос, и слезы, идущие, казалось, из самых глубин ее сердца, просачивались сквозь длинные пальцы…
Меня словно ледяным ветром обдало. С нескрываемым укором я глянул на дядю, подсел к маме, обнял ее и спокойно заговорил:
— Что ты, мама? О чем плачешь?
Она зарыдала еще громче и уткнулась лицом в мое плечо.
— Ну, мама… Уж не стареть ли ты начинаешь? — попытался пошутить я.
Мама не приняла шутки. Медленно подняв голову, она посмотрела на меня так, будто уже прощалась, и мне показалось, что никогда я не был ей так близок, как в эту минуту. Она не хотела печалить меня и постаралась сдержать горькие слезы. Потом погладила меня по голове своей легкой, дрожащей от внутреннего напряжения рукой и встала.
Несколько минут я сидел, погруженный в собственные мысли и переживания, затем решительно поднялся, прошел в свою комнату, переоделся. Войдя в столовую, где все еще сидели дядя и мама, я холодно простился с дядей, обнял маму, и так, будто иду в гости или на прогулку, сказал:
— Ну, я пошел… Если придется задержаться, дам о себе знать. Но ты, мама, не беспокойся, не надо, — все будет хорошо.
Все это время дядя сидел неподвижно и лишь нервно поглаживал узловатыми пальцами короткую бороденку, так идущую к его по-лошадиному продолговатому лицу. Но сейчас он поглядел на меня долгим взглядом и, стараясь говорить как можно внушительнее, произнес:
— Одумайся… О войне лучше слушать от других, чем самому лезть в пекло. Я поговорю с сипахсаларом, и он оставит тебя в Кабуле. Жизнь дается человеку всего один раз…
Я ничего не успел ответить, лишь глянул на дядю с укором. В дверь постучали, на пороге показался человек в форме офицера. Отдав честь, он протянул мне небольшой конверт и удалился.
Записочка была короткой: «Спеши, тебя ждут». И подпись капитана Ахмеда, моего друга по службе.
Я разорвал записку, бросил клочки в пепельницу и молча вышел.
Дежурный офицер, передавший мне конверт, дожидался у подъезда в машине. Едва я сел с ним рядом, он рассказал-то, о чем я уже знал: англичане подтянули войска к границе. И добавил, что горит нетерпением вступить в бой с врагом. Голос его при этом так звенел, такая готовность слышалась в нем, будто речь шла не о предстоящей кровавой схватке, а о каком-то празднике, в котором ему не терпится участвовать.
Настроение офицера передалось мне, и на душе сразу стало легче: я прав, я тысячу раз прав в своем решении! Да, безусловно, дядины тревоги вполне обоснованны: если пушки действительно загремят, это будет большим несчастьем, и неизбежны жертвы, и одной из них, быть может, окажусь я сам. Но, как говорится, «если не я, то кто, и если не сейчас, то когда?..». Так же, как сидящий со мною рядом в автомобиле офицер, я был исполнен нетерпеливой отваги, я готов был хоть сейчас лицом к лицу встретиться с врагом.
Так думал я и, погруженный в эти размышления, не заметил, как мы очутились у высоких дворцовых ворот. Ворота широко распахнулись, машина с гулом въехала во Двор.
У входа во дворец уже толпились офицеры — все молодые, как я, все мне знакомы, на лицах — сдержанное волнение и решимость.
Ахмед сразу отыскал меня в толпе, приветливо улыбнулся своими большими черными глазами, протолкался сквозь плотно теснившихся офицеров и спросил:
— Слышал?
Он закурил и протянул мне свой портсигар.
— Да, слышал, — ответил я. — Стало быть, грянул бой?
— Нет, пока еще старый лев только рычит, но, судя по всему, готовится к первому прыжку.
— А как эмир?
— Он такой же, каким ты видел его вчера.
Да, весь вчерашний вечер мы провели за ужином у эмира, беседовали с ним чуть не до полуночи. Он относился к нам, молодым офицерам, с уважением и интересом, а в пору, когда жив был еще его отец, не раз изливал нам душу. И мы давно поняли, что тяжелая судьба родины глубоко волнует Амануллу-хана, — ведь Афганистан был одной из самых отсталых, самых бедных стран мира и к тому же — страной зависимой. Часто эмир задавал вопрос самому себе и нам, своим друзьям: ну почему, почему другие страны, десятки других стран так тянутся к культуре, к прогрессу, а Афганистан должен прозябать в темноте и невежестве?!
Когда он начинал говорить об англичанах, в глазах его вспыхивали гневные огоньки. Он не был доволен ни внутренней, ни внешней политикой своего отца, но деликатные попытки хоть как-то повлиять на действия Хабибуллы-хана не имели успеха, — наоборот, они лишь порождали разные слухи, которые сперва расползались по дворцу, а затем просачивались и наружу. Беспокойные мысли Амануллы-хана постепенно стали влиять на нас все заметнее, хотя иной раз воспринимались как нереальные юношеские мечты и порывы. Его боль за жалкое состояние родины болью отзывалась и в наших сердцах. И, бывало, мы, молодые офицеры, чуть не до рассвета говорили о тяжелой жизни народа, о том, что страна наша превращена в мишень для вражеского оружия; мы ломали головы над тем, как сделать, чтобы Афганистан поднялся наконец, и встал во весь рост, и разогнул согнутую страданиями спину…
Но мы не находили ответа. Мы могли лишь с надеждой смотреть на Амануллу-хана. Однако в открытую выступить против отца он не решался, тем более что и не верил, будто сумеет чего-то добиться.
Между тем для осуществления подобных планов момент был самый благоприятный: в России низвергли самодержавие, и пришедшие к власти большевики с первых же дней решительно выступили против колониализма.
Великобритания к этому времени тоже не была уже прежней мощной державой — ее величие постепенно меркло. За независимость боролась Индия, боролись и другие порабощенные страны.
В Афганистане лишь редкая семья не испытала на себе смертоносной силы английского оружия. Страна бушевала всеобщим негодованием. Однако не существовало еще силы, способной поднять народ на борьбу, не было того штаба, какой мог бы привести массы в движение, возглавить их и направить.
Смерть Хабибуллы-хана мгновенно пробудила эти силы к действию. Стена покорного молчания рухнула, жизнь набирала новый темп, и мы,