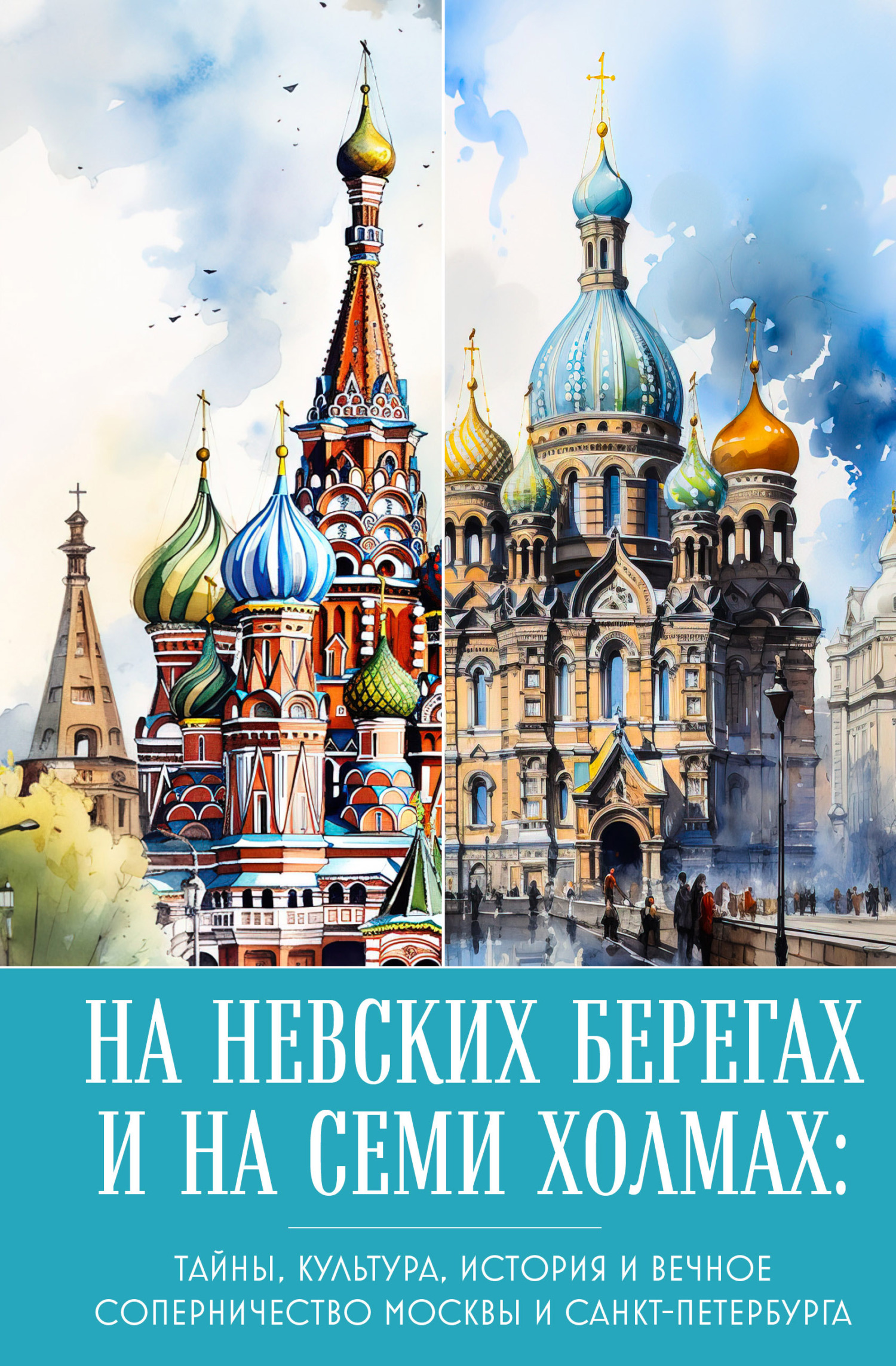пришла в негодность, поэтому в 1728-1740 годах она была отстроена в камне.
Сампсониевское кладбище стало первым городским кладбищем — до того умерших погребали у приходских церквей (многие из таких захоронений впоследствии были закреплены как официальные кладбища) или при собственных домах. Путешественник Иоганн Бернулли пишет, что «…в былое время в Петербурге на дальних улицах валялись трупы, особенно бедных чужестранцев, их пожирали собаки и клевали вороны»[17]. Поэтому важно отметить, что при Сампсониевской церкви было открыто не только православное кладбище, но и кладбище для иноверцев — оно находилось южнее православного.
Сампсониевский собор, конец XIX — начало XX века.
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Итак, с 1711 года жители Петербурга должны были хоронить умерших на Сампсониевском кладбище. Интересно, что больше 20 лет Сампсониевское кладбище было бесплатным для погребения не только бедняков, но и богатых — деньги брали только в том случае, если кто-то желал пожертвовать на «церковное строение». В 1732 году императрица Анна Иоанновна, правда, ограничила погребение на кладбище только людьми из прихода, но спустя два года это ограничение было снято. В 1720-1740-х годах кладбище активно функционировало. Сохранилось описание надгробных сооружений, типичных для того времени: «…путиловские каменные плиты, а в редких случаях — чугунные, тонкого размера, без всяких орнаментов, на которых вырезался крест и делалась надпись о лице, покоящемся под плитой»[18]. Надгробия были описаны в 1860-е, и автор отмечает, что подобные надгробия «…доныне можно видеть в оградах […] Сампсониевской церкви».
На кладбище активно хоронили как обычных горожан, так и известных лиц (чиновников, купцов), и даже опальных дворян-заговорщиков. Это, пожалуй, самое известное погребение: в 1740 году на Сампсониевском кладбище похоронили кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, государственного деятеля Андрея Федоровича Хрущева и архитектора Петра Михайловича Еропкина, казненных за антиправительственный заговор, попытки противиться бироновщине, царившей в Петербурге в правление Анны Иоанновны.
Фрагменты надгробных плит XVIII века.
Фото автора
Сампсониевское кладбище было открыто до 1770-х — этими же годами датируются последние известные захоронения. Уже к концу XVIII века кладбище не отмечалось на картах — сейчас на его территории сад и служебные постройки. Так было и в конце XIX века: «…[ограда. — Прим. авт.] застроена также тесно… лишь случайно уцелели исторические могилы Волынского, Еропкина и Хрущова»[19]. Еще раньше, в середине XVIII века, с карт пропало иноверческое кладбище: его территория была отдана под огороды, а позже застроена. В 1892 году на территории южнее Сампсониевской церкви (как раз там располагалось иноверческое кладбище) были найдены каменные надгробные плиты середины XVIII века с надписями на немецком языке. Спустя несколько лет плиты были уничтожены.
Как могли выглядеть эти надгробные плиты? В основном использовали известняковые, реже чугунные плиты с подробным текстом об умершем и эпитафией, и с обязательными адамовыми головами в ногах.
Адамова голова — символ в виде черепа, иногда со скрещенными под ним костями, часто встречающийся на надгробных сооружениях. Считается, что Иисус был распят на могиле ветхозаветного Адама и кровь Иисуса, окропив кости Адама, искупила его грех. «Голова Адама» — символ прощения, надежды и воскресения.
На плитах начала XVIII века мог встречаться причудливый шрифт — вязь. Плиты могли лежать на еще одной плите-основании, что позволяло ей не проваливаться в землю под своим весом. Также вместо плит мог быть поставлен и обычный деревянный крест, однако срок его жизни в петербургском климате был недолог.
Надгробная плита XVIII века с «головой Адама».
Фото автора
Сохранился и памятник Волынскому, Хрущеву и Еропкину: высокая стела в классицистическом стиле с барельефами, сильно контрастирующая с небогатыми плитами у собора — это потому, что установлен памятник был уже в конце XIX века на пожертвования, собранные журналом «Русская старина». Этот журнал, кстати, и стал инициатором установки памятника, а самый большой взнос внесла дальняя родственница Волынского.
В конце XIX века в Российской империи росли антигерманские настроения, поэтому А. П. Волынский, как противник немецкого влияния во времена Анны Иоанновны, получил большую популярность.
Сампсониевское кладбище было не единственным некрополем на Выборгской стороне. Почти на берегу Невы существовало Спасо-Бочаринское кладбище при одноименной церкви, построенной в 1714 году. Иногда церковь называют Тихвинской или церковью в честь праздника Происхождения Честных Древ. Церковь, будучи деревянной, несколько раз перестраивалась, и в 1752 году был выстроен каменный храм, который спустя столетие критиковали за сырость, темноту и тесноту. Это не помешало разместить в церкви фарфоровый (sic!) иконостас, изготовленный на заводе братьев Корниловых в 1880-е годы — большая редкость для того времени, учитывая объем и сложность работы. Стоил иконостас не менее 6000 рублей серебром (около 2 миллионов рублей на современные деньги).
Такое название она имела потому, что этот церковный праздник в народе назывался Медовый спас, поэтому «Спасо-». Но откуда «Бочаринская»? Все дело в том, что неподалеку были Компанейская и Бочарная слободы, где жили работавшие на армию пивовары и бондари (бочары). Вот и получилась «Спасо-Бочаринская».
Кладбище же, вероятно, существовало с 1710-х годов (возможно, и раньше), когда была построена первая Спасо-Бочаринская церковь. В 1746 году, предположительно, указ императрицы Елизаветы Петровны «Об уничтожении кладбищ Калинкинского и Вознесенского и о заведении оных в Ямской Московской слободе, на Охте и на Выборгской стороне» разрешал погребения как раз на этом кладбище — но возможно, что и на других кладбищах Выборгской стороны тоже. Относительно точно можно сказать, что в 1750-е годы, когда освящался главный придел храма, «[на] погосте погребались прихожане»[20]. Погребения продолжались и десятилетие спустя: на кладбище «…при церкви Преображения