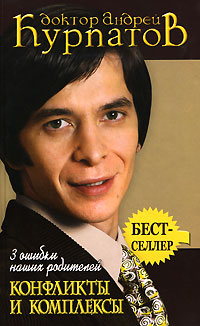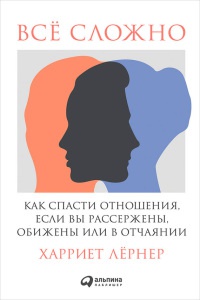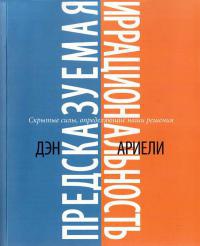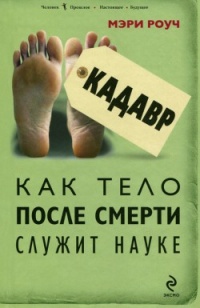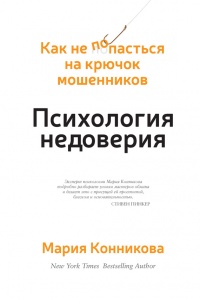Карлен вместе с коллегами предполагали, что враждебное/навязчивое поведение со стороны матери станет наиболее важным фактором в развитии психической нестабильности у повзрослевших детей, однако на деле все оказалось иначе. Наиболее сильное и продолжительное влияние оказала эмоциональная отрешенность. Эмоциональная отдаленность и смена ролей (когда мать ожидает от ребенка, что он будет о ней заботиться) в особенности способствовали проявлению у молодых людей агрессивного поведения по отношению к себе и окружающим.
Диссоциация: когда знаешь и не знаешь одновременно
Особый интерес для Лайонс-Рут представляло явление диссоциации, когда человек чувствовал себя потерянным, раздавленным, брошенным и изолированным от мира и воспринимал себя нелюбимым, пустым, беспомощным, безнадежным и угнетенным. Она обнаружила «поразительную и неожиданную» связь между пренебрежением и неспособностью подстроиться со стороны матери в течение первых двух лет жизни и симптомами диссоциации в юношестве. Лайонс-Рут заключила, что дети, у которых не сложилось здоровой связи со своей матерью, подвержены повышенному риску оказаться неспособными в юношеском возрасте адекватно воспринимать себя и свое окружение (36).
Дети, воспитываемые в здоровых отношениях, учатся выражать не только свои фрустрации и печали, но также и свое зарождающееся «Я» – свои интересы, предпочтения и цели. Получение сочувственного отклика защищает детей (и взрослых) от чрезмерного тревожного возбуждения. Когда же взрослый игнорирует их потребности либо возмущается самим их существованием, то они привыкают к отчужденности и отторжению. Они справляются с этим как могут, блокируя материнскую враждебность или пренебрежение, и ведут себя так, словно это не имеет значения, однако их тело чаще всего остается в состоянии повышенной бдительности, готовое отразить удары или принять лишения и отторжение. При диссоциации человек одновременно знает и не знает о происходящем с ним (37).
Боулби писал: «Те чувства, которые не могут быть выражены по отношению к матери/другому, не могут быть идентифицированы в самом себе» (38). Когда тебе невыносимо знать то, что ты знаешь, или чувствовать то, что ты чувствуешь, то единственным спасением является отрицание и диссоциация (39).
Пожалуй, самым губительным долгосрочным последствием подобной защитной реакции является то, что человек перестает чувствовать себя настоящим. Когда ты не чувствуешь себя, для тебя уже ничего не важно, из-за чего ты больше не можешь защитить себя от опасности.
Либо же, стремясь почувствовать хоть что-то, человек прибегает к крайним мерам – например, режет себя лезвиями или затевает драку с незнакомцами. Мы видели подобные состояния у детей в Детской клинике и наблюдаем в настоящий момент у детей и взрослых, обращающихся в наш Центр травмы.
Исследование Карлен показало, что диссоциация развивается в раннем возрасте: последующее жестокое обращение или другие травмы не способствуют симптомам диссоциации, наблюдаемым в юношеском возрасте (40). Насилие и психологические травмы приводят ко многим другим проблемам, однако не имеют никакого отношения к диссоциации или агрессии по отношению к себе. Отсутствие ощущения защищенности в отношениях со взрослым в раннем детстве приводит к нарушению чувства внутренней реальности, чрезмерной привязанности и склонности к саморазрушению: бедность, воспитание матерью-одиночкой или наличие у матери психиатрических проблем никак на появление этих симптомов не влияют.
Это вовсе не означает, что жестокое обращение с ребенком не оказывает никакого влияния (41), однако качество отношений ребенка с родителем в раннем детстве оказалось решающим фактором в предотвращении развития психических проблем, независимо от наличия каких-либо других травм (42). По этой причине лечение должно затрагивать не только отпечатки конкретных травматических событий, но также и последствия отсутствия здоровой привязанности в раннем детстве, а именно диссоциацию и утрату саморегуляции.
Восстановление синхронности
Каждая стратегия привязанности создает внутреннюю карту, которая будет определять наши отношения на протяжении всей жизни, причем не только ожидания от других людей, но и то, насколько комфортно и приятно нам будет в их присутствии. Я сомневаюсь, что поэт Эдвард Эстлин Каммингс мог бы написать свои веселые строки «Люблю свое тело, когда оно с твоим телом сопряжено. И все так ново. И мускул – на мускуле. И нерв – на нерве», если бы в раннем детстве он только и видел что каменные лица и враждебные взгляды (43). Карта взаимоотношений с окружающими впечатана в наш эмоциональный мозг, ее нельзя изменить лишь пониманием того, какой она должна быть. Вы можете осознать, что ваша боязнь близких отношений как-то связана с послеродовой депрессией вашей матери или с тем фактом, что она сама в детстве была растлена, однако этого не будет достаточно, чтобы вы смогли довериться другому человеку и быть с ним счастливы.
Тем не менее осознание этого может помочь вам начать поиски других способов взаимодействия в отношениях – как ради вас самих, так и ради ваших детей, которым вы можете передать нездоровую привязанность. В пятой части книги я рассмотрю ряд подходов по исцелению искаженной системы подстройки с помощью обучения ритмичности и взаимности (44). Для синхронизации с самим собой и окружающими необходимо задействовать наши телесные ощущения – зрение, слух, осязание и чувство равновесия. Когда этого не происходит в младенчестве и раннем детстве, повышается риск проблем с сенсорной интеграцией в будущем (к которым могут привести далеко не только травма и пренебрежительное отношение).