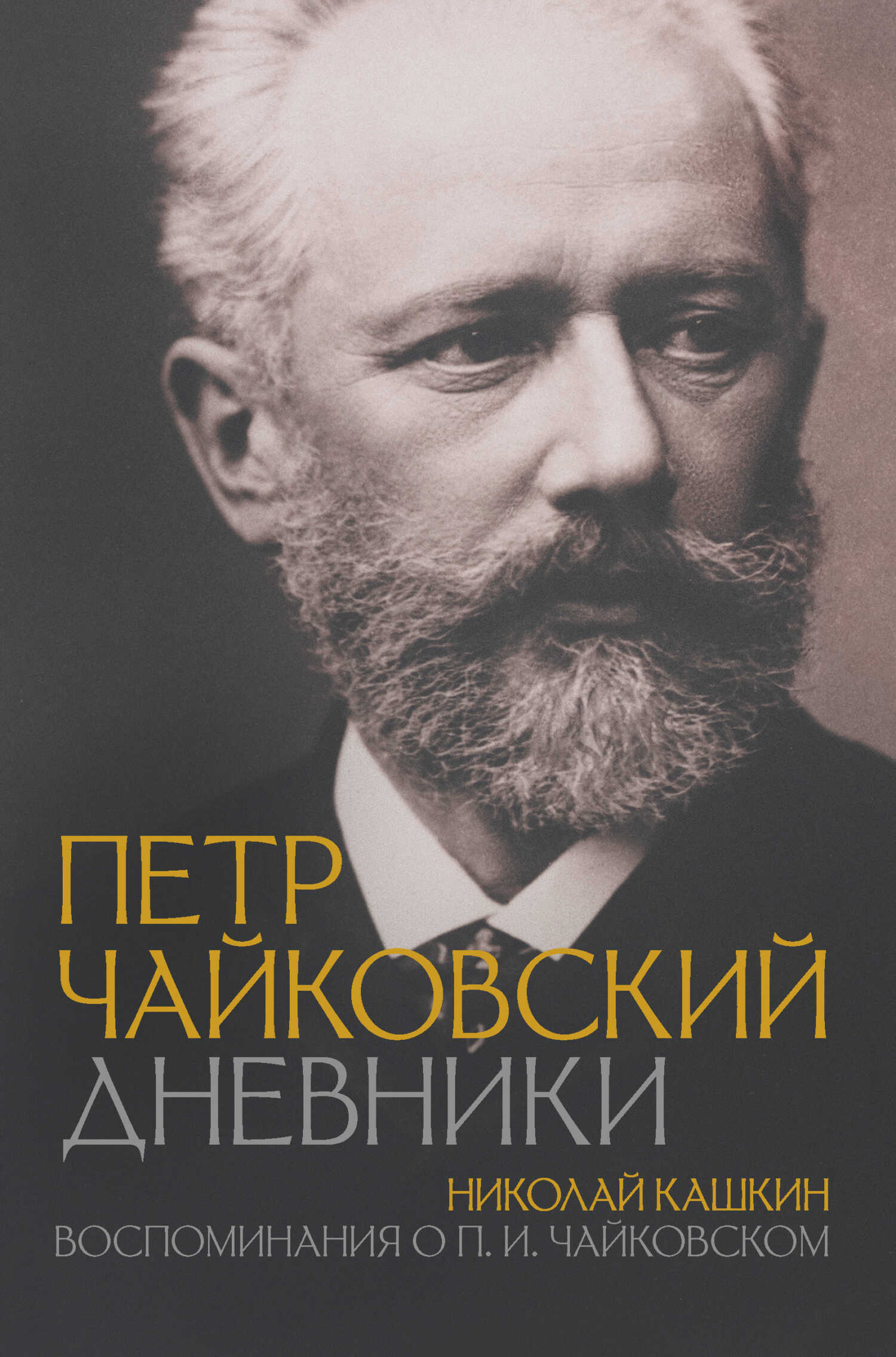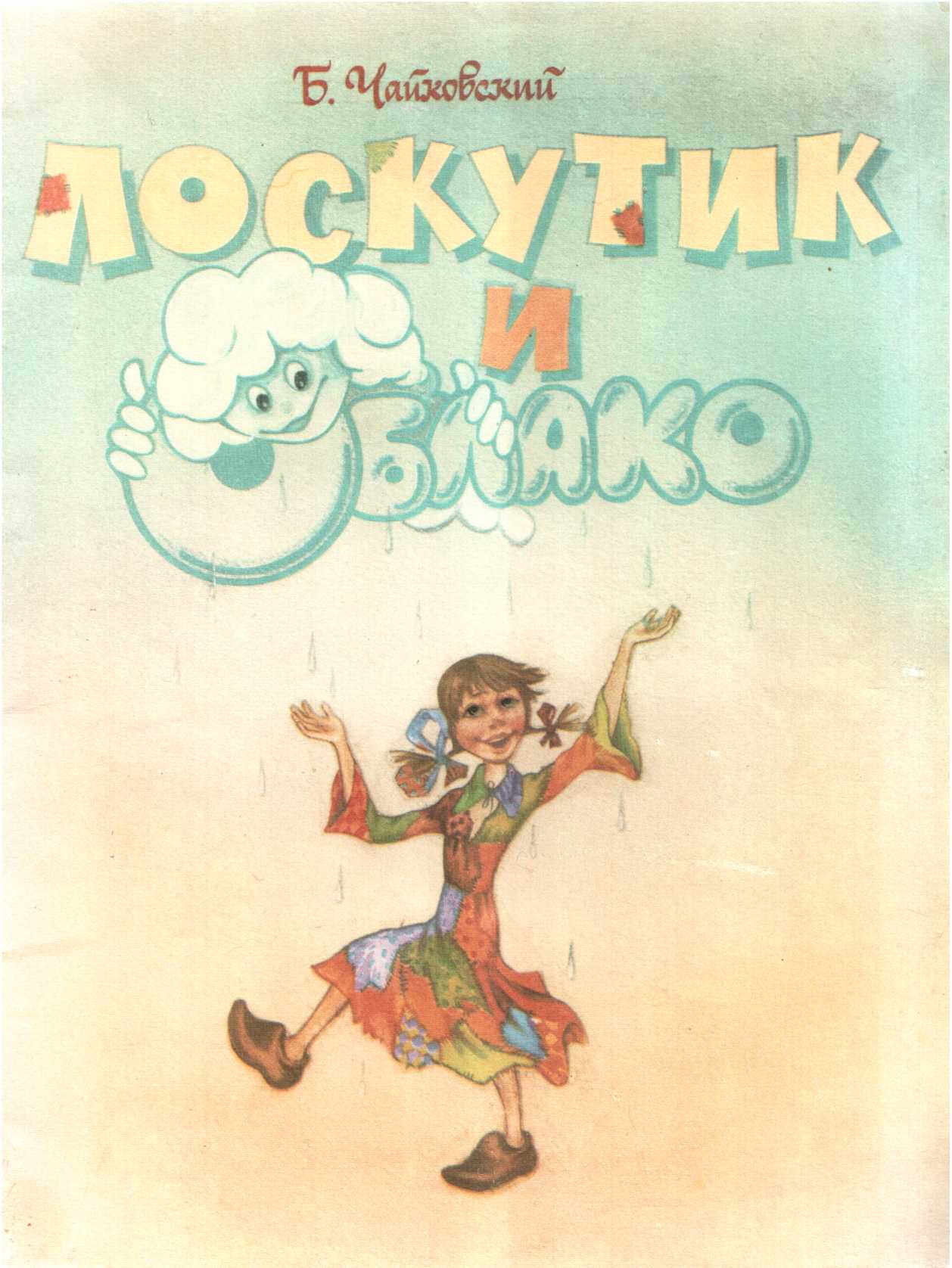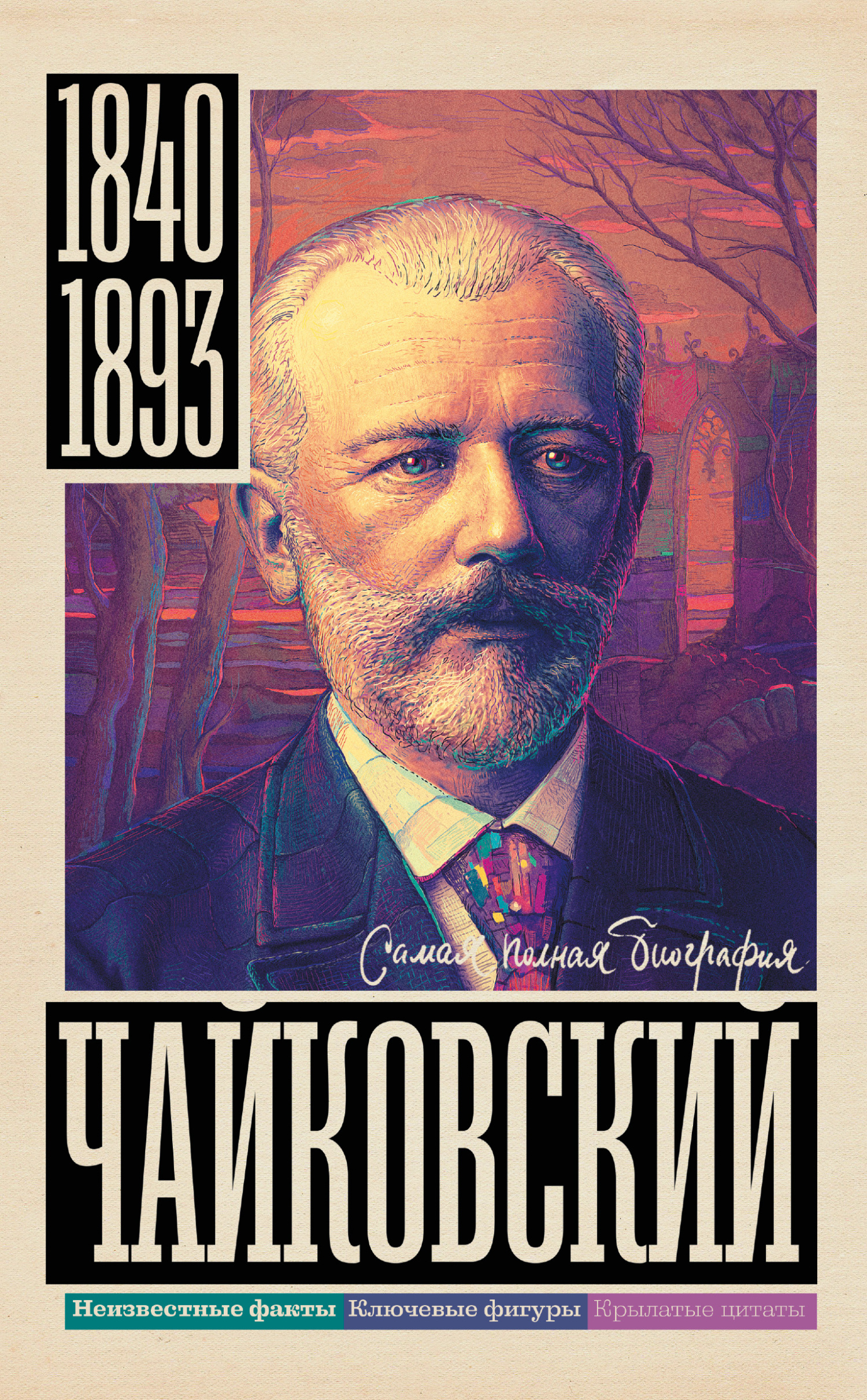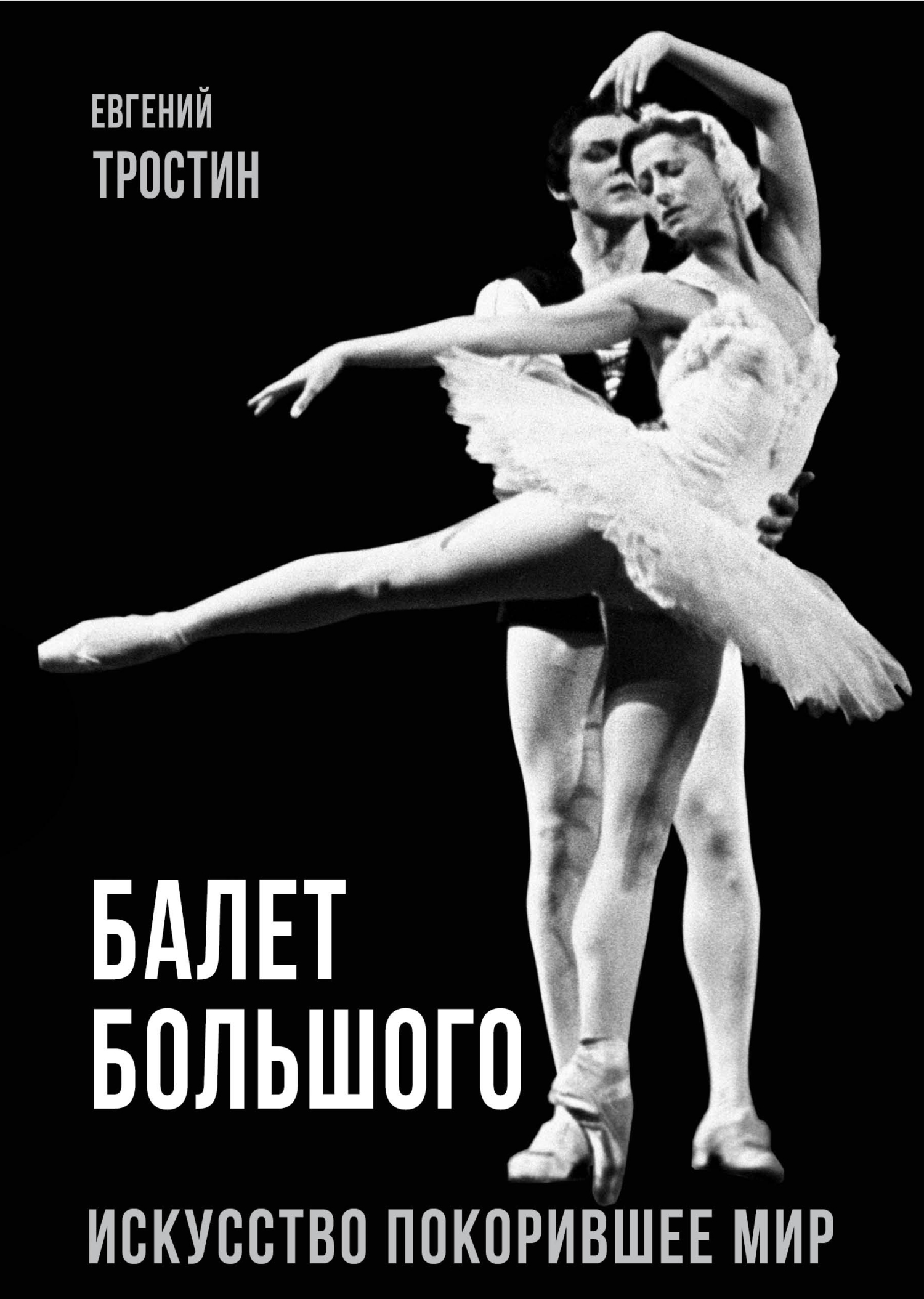свою Пятую симфонию. <…>
При такой повышенной нервности у Чайковского было много идиосинкразии (Врожденная неприязнь к некоторым внешним раздражениям.). Были люди, которых он органически не выносил даже без особенно важной причины, например музыкального критика Иванова. Чайковский был очень терпим и отходчив, но вся деятельность Иванова и как критика, и как композитора претила его и художественной, и этической природе. Когда Галкин пожелал сыграть в Русском музыкальном обществе в Москве скрипичный концерт Иванова, Чайковский, который тогда стоял во главе дирекции, наложил свое абсолютное вето: «Или вы сыграете другое, или вы совсем не будете играть в симфоническом концерте». Галкин заупрямился и перешел к Шостаковскому, что, конечно, не примирило его с Чайковским. Позднее он всячески искал случая встретиться и объясниться с Чайковским, но тщетно. Вообще же, повторяю, Чайковский был очень терпим и легко прощал выпады против него. Другая маленькая странность была у него – нежелание встретиться с товарищами по Училищу правоведения, где он чувствовал себя очень одиноким и заброшенным. У меня было два знакомых, его товарищи, милейшие люди и совсем антимузыкальные, что тоже должно было составлять прелесть в глазах Чайковского: отсутствие музыкальных разговоров с профанами. Они часто обедали у меня. Петр Ильич всегда просительно смотрел на меня: «Не приглашайте Д. и Ш., когда я у вас». Конечно, эта просьба исполнялась беспрекословно. Исключение Чайковский делал только для Апухтина и Мещерского. Почему он относился хорошо к последнему, – загадка.
К числу его антипатий, известной дикости в сношениях с людьми принадлежала ненависть к разговорам в вагоне. Как-то он ехал из Петербурга в Москву и на месте рядом с ним оказался Н. К. Ленц, горячий поклонник Петра Ильича, живший в Твери и устроивший там музыкальный кружок, который усердно разучивал и распространял сочинения Чайковского. Зная его ненависть к разговорам в вагоне и деликатность, которая не допустила бы его молчать со знакомым, Ленц, поздоровавшись, сказал: «Петр Ильич, я перейду в другой вагон и пошлю на свое место совсем вам чужого человека». Чайковский благодарно посмотрел на него.
Ленц исполнил свое намерение, но уже на следующей большой станции Чайковский разыскивает Ленца:
– Николай Константинович, ради бога, вернитесь ко мне. Это – ужасный господин, он все время интервьюирует меня.
Ленц, для которого желания Петра Ильича были выше всяких соображений вежливости, отправился к своему прежнему месту:
– Я раздумал, пустите меня сюда обратно.
– Но, – попытался возражать тот, – мне очень интересно, я беседую с Чайковским, я расспрашиваю о его сочинениях, о музыке, я хочу остаться здесь.
– Ну, как вам угодно, а уходите, – довольно резко возразил Ленц.
Злосчастному любителю разговоров со знаменитостью пришлось удалиться.
– Ну, Петр Ильич, будем спать, я очень устал, прощайте.
– Мне было все равно, что подумает обо мне этот господин, – говорил мне Ленц, рассказывая этот эпизод, – мне было важно устроить удобно и приятно Петра Ильича.
Этот самый Ленц, вместе с моим вторым мужем, переложил на восемь рук «Манфреда», которым мы все страшно увлекались и который очень труден в четыре руки. Ленц с женой и я с мужем разучили аранжировку и сыграли ее Чайковскому. Он остался так доволен, что не сделал ни одного замечания и отдал Юргенсону в печать. Ленц так поклонялся Петру Ильичу, что в назначенный для проигрывания день, хотя жена чувствовала себя очень плохо, он категорически заявил ей, что она не может не ехать, раз Петр Ильич назначил. Она приехала, хорошо сыграла свою партию, а на другой день у нее оказалась корь.
В другой раз Чайковский встречает в вагоне Вержбиловича. «Ах, Петр Ильич, как кстати. Со мной в одном отделении едет Тургенев. Ему очень хочется познакомиться с вами. Я пойду приведу его». Вержбилович уходит, а Петр Ильич, как тать ночной, потихоньку пробирается в третий класс и прячется там до прихода поезда в Москву и до выхода последнего пассажира. «Зачем вы это сделали? – спросила я, когда он, как школьник, обманувший наставника, рассказывал это. – Разве вы не любите Тургенева?» – «Страшно люблю, поклоняюсь ему, но что бы я сказал ему? Мне было очень неловко, и я сбежал».
На прогулках ему всегда приходили музыкальные мысли, а потому он гулял всегда один, и близкие при встрече делали вид, что не замечают его. Как-то раз, в ноябрьскую слякоть, уже в сумерках, я столкнулась с ним у Биржевого моста (он всегда выбирал самые захолустные места). Пройти мимо нельзя было, я подала ему руку и хотела идти дальше. «Нет, пойдемте вместе, – сказал он со своей обычной рыцарской вежливостью, – я теперь ни о чем не думаю». Зная его хорошо, я отговорилась спешным делом и быстро удалилась, уверенная, что доставляю ему удовольствие, не нарушая ход его мыслей.
Чайковский был удивительно скромен. Конечно, всякий талант не может не знать себе цену, и Чайковский сознавал свое высокое признание и был счастлив им. Но при этом у него не было ни капли высокомерия. Он был не только скромен, но часто не уверен в себе. Пока он писал, он был счастлив. «Это выходит хорошо, это будет моя лучшая вещь», – говорил он радостно, а когда она выходила в печать, исполнялась, часто она ему начинала казаться недостойной, не отвечающей тому, что он хотел высказать. Так, он серьезно носился с намерением уничтожить три части «Манфреда», кроме первой. «Что это такое, – говорил он, – разве я передал глубоко трагический образ байроновского героя. Особенно последняя часть: Манфред умирает, а у меня какая-то чертовщина, адская кухня». Понадобилось серьезное вмешательство Балакирева, чтобы удержать Чайковского от этого шага. «Это моя симфония, – заявил авторитетно Балакирев, – вы не имеете права на мою собственность». Свою первую оркестровую вещь «Воевода» Чайковский бросил в огонь на другой день после ее исполнения. Часто он брался переделывать давно написанные и напечатанные вещи (Вторую симфонию, «Вакулу»), и часто неудачно. Во время исполнения его произведений он слушал их как посторонний и часто несправедливо критиковал. В Камерном обществе исполняли его секстет. «Ну что, – подошел он ко мне, – ведь неважно? Банально? Я нарочно взял итальянские темы, так как писал его во Флоренции. А кажется, вышло пошловато». Я как-то сказала, что очень люблю его увертюру «1812 год». Он чистосердечно удивился. «Да что вы там нашли? Это ведь написано на заказ». – «Ну, а красота Fis-dur'ной темы, а удивительное сплетение молитвенного мотива „Спаси, господи, люди твоя" и воинственной марсельезы?» – «Ну да, это действительно удачно вышло». В другой раз я имела неосторожность сказать, что мне не нравится одна часть его Первой сюиты. Когда ее исполняли