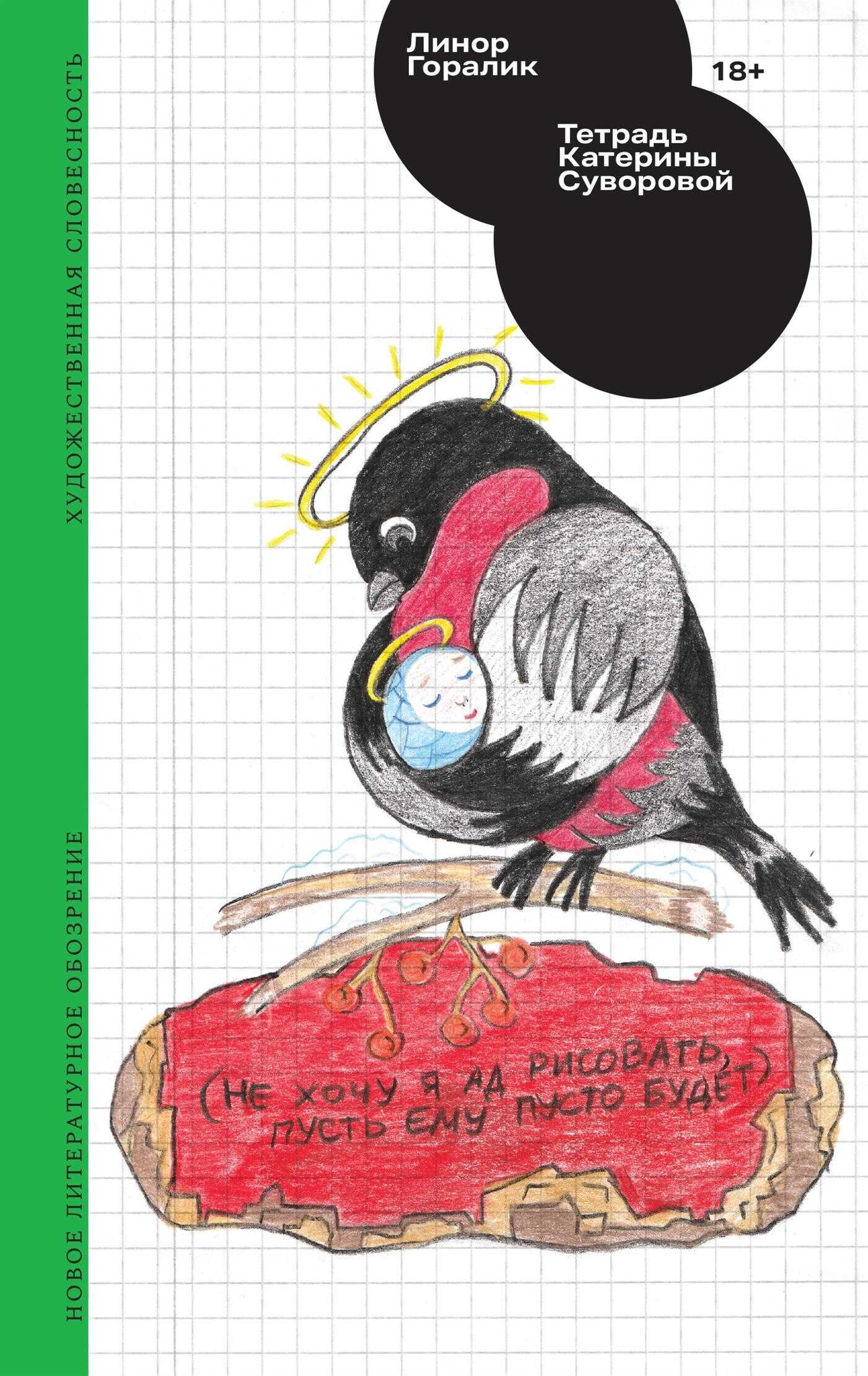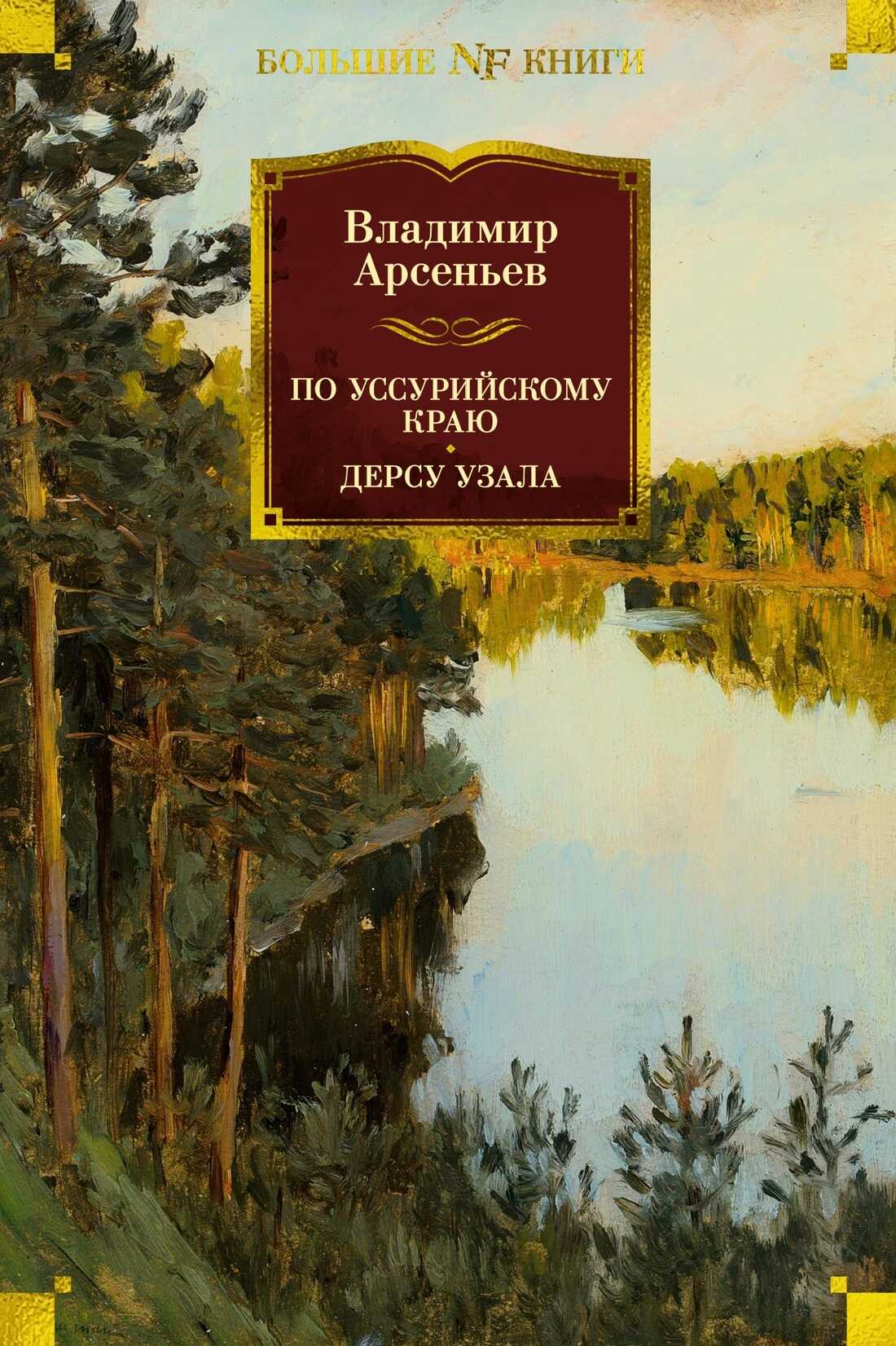как Лиам орет:
– В школе тебе конец, говнюк! Моя мама об этом позаботится.
Лиам так и сидит на земле и держится за лицо, а рыжий стоит рядом, дрожит и по-настоящему ревет. Внезапно возникает Юрий. Я оставил детей одних в классе, и кто-то из них нашел в моей поясной сумке зажигалку и поджег в коридоре плакат с фотографией Бен-Гуриона. Юрий рассказывает, как тушил плакат, – выходит так, будто он спас младенца из горящего дома. Я смачиваю Лиаму лицо водой. Он теперь выглядит неплохо – крови из губы уже поменьше. Рыжий все плачет, но это меня не интересует. Меня интересует только этот сопливый Равив, который не сводит с меня взгляда, даже когда мы возвращаемся в класс. Я звоню папе Лиама, который работает оценщиком недвижимости и большую часть времени проводит дома, и через пять минут он появляется. Лиам орет на него, что он шел слишком медленно и что он, Лиам, пожалуется маме, а потом рассказывает про рыжего. Врет напропалую, говорит, что рыжий ударил его по голове камнем, но я не вмешиваюсь. Пока он не открывает рот насчет меня, я лучше помолчу. Потом появляется мама близняшек со сросшимися бровями. У нее аргентинский акцент. Она сделала своих дочек через ЭКО, и, судя по их внешности, они от семени питекантропа. В конце концов мы с Равивом остаемся одни. Я даю ему поиграть в моем айфоне, хотя обычно никогда ничего подобного не разрешаю. И пока он уничтожает целые народы в игрушке, которую я скачал несколько дней назад, я пытаюсь поговорить с ним о том, что случилось.
– Нехорошо, что вы с Лиамом сбежали из класса без разрешения, – говорю я ему – мягко, как хорошая мама, чтобы он не подумал, будто я настроен против него, но в то же время понял, что у меня на него кое-что есть. – Я не скажу твоей маме, – говорю ему я. – Но я хочу, чтобы ты мне пообещал больше так не делать.
А он, не поднимая головы от игрушки, говорит:
– Я тебя видел.
– В смысле что ты видел? – спрашиваю я, как будто вообще не понимаю, о чем он.
– Я тебя видел, – повторяет он. – Когда Гаври бил Лиама, ты улыбался.
– Ничего подобного, – говорю я. – Я не улыбался, я бежал. Я бежал со всех ног, чтобы их разнять.
Но Равив уже не со мной, он в игре. Стреляет лазером по всему, что движется. Когда приходит его мама, я не пилю ее, как обычно, за то, что пришла после пяти. Я только говорю ей:
– Какой у вас прекрасный мальчик. Лапочка! – прямо рядом с ним, чтобы он слышал.
За те пять минут, что я иду до набережной, у меня уже два неотвеченных звонка и текстовое сообщение от Маора. В сообщении ничего не написано. Сукин сын слишком ленив, ничего писать не стал, но послал мне пустое сообщение, чтобы я увидел и перезвонил. Я размышляю, покурить сначала и потом позвонить ему или наоборот. Довод “за” – косяк смягчит беседу, обернет весь неприятный разговор в пупырчатую пленку и защитный пластик. Довод “против” – с Маором надо быть начеку, отвечать быстро и, может быть, изобрести ложь-другую прямо на ходу. Я выбираю вторую опцию и звоню всухую. Маор орет по телефону. Говорит, что мама Лиама позвонила и поклялась накрутить других родителей и позаботиться о том, чтоб они послали его школу к чертовой матери. За последний год она собрала на него немало грязи и пообещала вытащить на свет всё. Включая обеды, которые иногда подаются замороженными. Маор говорит, что, если ей это удастся, ему будет нанесен урон в двести тысяч шекелей, и все из-за меня. Ее ребенок завтра не придет, у него сотрясение мозга, и Маор хочет, чтобы утром, до работы, я заехал к ней с подарком – угощением или маленькой игрушкой – и отлизал у мамы, чтоб она отцепилась от него. Разговор с Маором – та еще пытка. Он все повторяет по десять раз, и я жалею, что не покурил заранее. Прежде чем дать отбой, он снова мне угрожает. Говорит, что, если по моей вине ему со следующего года отзовут лицензию на школу, он подаст на меня в суд. А я говорю, чтоб он успокоился. Что завтра я приду и подлижусь к маме как следует. Когда разговор заканчивается, уже нет никакого заката. Я сижу совершенно трезвый и пялюсь в сумрак. Когда солнце заходит, вокруг не остается ничего, кроме уродливых туристов и мерзкой музыки из пляжных ресторанов. А завтра придется поставить будильник и рано встать, чтобы успеть купить подарок ребенку, которого я ненавижу больше всего на свете. Эта неделя началась очень плохо и делается только хуже.
– Я думала, ты уходишь после заката, – слышу я ее и даже чувствую (или мне чудится) ее дыхание на моей шее.
– Закат, восход… Я жду тебя с воскресенья! – улыбаюсь я и тут же на себя злюсь, что вместо чего-нибудь позитивного умудрился одной фразой выставить себя и прилипалой, и тряпкой.
– Прости, – говорит Акирова и садится рядом. – У меня всю неделю был страшный бардак на работе. Не только на работе – в жизни.
Я хочу спросить, что случилось, но допираю, что она не захочет об этом говорить, а ее уклончивость привнесет еще несколько нежелательных грамм напряга в эту встречу. Так что я не докапываюсь, а достаю самокрутку. После одного “пфф” я передаю ей, и она присасывается, как наркоманка.
– Я уже пять дней думаю об этом, – улыбается она и возвращает самокрутку мне.
Я не беру.
– Кури, – говорю я, – накуривайся вусмерть.
Она секунду колеблется, а потом продолжает курить.
– Тяжелая неделя? – спрашиваю я.
Она кивает и хлюпает носом. То ли насморк, то ли она пытается не плакать, я не понимаю.
– У меня тоже неделька была та еще, – говорю ей я. – Нам вредно так долго не встречаться. Карму дырявит.
– Слушай, – улыбается она, – я хочу попросить тебя об одолжении. – С этими словами она роется в сумке, а я гадаю, что такого она может у меня попросить. – Я хочу тебя нанять, – говорит она и достает из сумки кошелек.
– В каком качестве? – улыбаюсь я. – Личного охранника, бебиситтера для ребенка, авиашефа?
– У меня нет ребенка, – вздыхает она. – Еда меня не очень интересует, и я довольно хорошо сама себя охраняю. Я хочу нанять тебя, чтобы ты продолжал делать ровно то, что делаешь. Чтобы ты приходил на набережную каждый закат, а если я