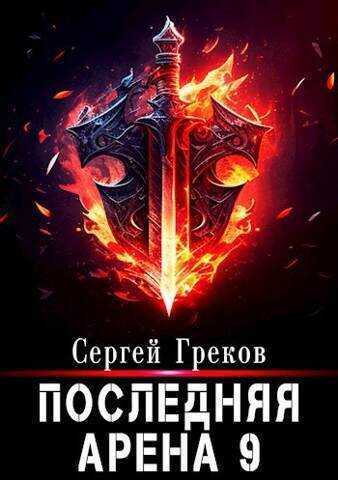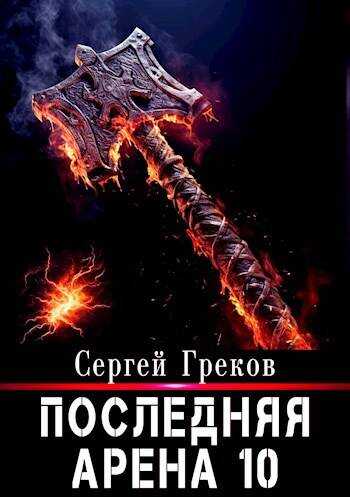новые страны и новые области промышленности, они пользуются новыми технологиями и новыми технологическими процессами, продолжая наращивать свои прибыли. Несмотря на то, что последние двадцать лет доллар был очень дорогим, американский экспорт твердо стоит на ногах.
Рост ВВП, то есть чистая прибыль, за последнюю четверть века составил в среднем 3 процента, что существенно больше, чем в Европе. (За тот же период средний показатель по Японии равен 2,3 процента.) Рост производительности труда, этот эликсир современной экономики, вот уже десять лет превышает 2,5 процента, то есть процентный пункт снова выше, чем в среднем по Европе. На Всемирном экономическом форуме Соединенные Штаты были объявлены самой конкурентоспособной экономикой мира. Такой рейтинг составляется ежегодно с 1979-го, и позиция США всегда была неизменной, лишь в последние годы они немного уступили таким небольшим североевропейским странам, как Швеция, Дания и Финляндия (суммарное население которых равно двадцати миллионам – меньше, чем в штате Техас). Исключительные параметры роста Америки могут ухудшиться, и, возможно, ее рост в следующие несколько лет станет более «нормальным» для такой промышленно развитой страны. Но главный пункт – Америка, несмотря на ее огромный размер, это передовая высокодинамичная экономика – все еще в силе.
Взгляните на различные отрасли промышленности ближайшего будущего. Нанотехнология – прикладная наука, занимающаяся управлением материей на атомном или молекулярном уровне, – в течение ближайших пятидесяти лет приведет, вероятно, к фундаментальному прорыву Мне говорили, что когда-нибудь в будущем товары можно будет создавать, не выходя из дома, из сырья – компании просто найдут формулы превращения атомов в товары. Неважно, реклама это или предвидение, стоит отметить, что Соединенные Штаты господствуют в этой области по всем показателям. Здесь больше специальных центров нанотехнологий, чем у трех их ближайших конкурентов (Германии, Великобритании и Китая), вместе взятых, и многие из этих новых центров специализируются на узких темах, имеющих большой потенциал практического применения на рынке – в качестве примера можно назвать нанотехнологический центр лечебно-диагностической онкологии при университете Эмори, штат Джорджия.
При нынешнем рыночном валютном курсе правительственное финансирование нанотехнологий в Соединенных Штатах почти вдвое превышает финансирование этой области их ближайшим конкурентом – Японией. В то время как Китай, Япония и Германия публикуют множество научных статей по нанотехнологиям и наноинженерии, Соединенные Штаты разработали больше патентов в этой сфере, чем весь остальной мир в совокупности – это свидетельствует о выдающейся способности Америки превращать абстрактную теорию в физические изделия.
Компания Lux, которую возглавляет доктор Майкл Холман, создала матрицу, позволяющую оценивать достижения стран в области нанотехнологий. При анализе рассматривалась не только активность в сфере нанотехнологий, но и способность «обеспечить экономический рост за счет научных инноваций». Выяснилось, что некоторые страны, вложившие изрядные средства в исследовательскую работу, не могут развернуть свою науку в направлении бизнеса. Эти страны, так сказать, воздвигшие «башню из слоновой кости», достигли впечатляющих результатов в области фондирования исследований, научных публикаций и даже в патентовании своих открытий, но почему-то им не удается превратить все это в промышленные товары и коммерческие идеи. Здесь потерпели крах Китай, Франция и даже Британия. 85 процентов инвестиций венчурного капитала в нанотехнологий приходится на долю американских компаний.
Биотехнология – общее определение, которое описывает использование биологических систем для создания медицинских, сельскохозяйственных и промышленных изделий, – уже стала мультимиллиардной индустрией. Здесь тоже доминируют Соединенные Штаты. В 2005 году более 3,3 миллиарда долларов венчурного финансирования пришло в американские биотехнические компании, тогда как европейским компаниям досталась лишь половина этой суммы. Последующее финансирование (то есть в условиях уже сформировавшегося рынка акций этих компаний) в США было в семь раз больше, чем в Европе.
* * *
«Конечно, – говорят самые обеспокоенные, – вы же смотрите на стоп-кадр сегодняшнего дня. Но преимущества Америки быстро тают по мере того, как страна теряет свою научную и технологическую базу».
Для некоторых упадок в науке является симптомом более серьезного культурного упадка. Страна, которая когда-то придерживалась пуританской этики отложенного удовольствия, вдруг ринулась в пучину наслаждений. «Мы теряем интерес к основам – к математике, производству, упорному труду, экономии – и превращаемся в постиндустриальное общество, которое ориентировано на потребление и досуг. О какой надежде может идти речь, если на каждого дипломированного американского инженера приходится одиннадцать китайских и индийских? Что же касается стоимости подготовки одного химика или инженера в Соединенных Штатах, то любая компания может нанять на ту же зарплату, что получает американский специалист, пять отлично подготовленных и энергичных химиков из Китая или 11 инженеров из Индии».
Единственная проблема заключается в том, что по большей части эти цифры неверны. Этой темой занялись журналист Wall Street Journal Карл Бялик и несколько ученых. Они быстро поняли, что в данные по Азии включены специалисты, прошедшие лишь двух– или трехлетний курс обучения, то есть студенты, получившие дипломы по элементарным техническим дисциплинам. Группа профессоров инженерного факультета Университета Дьюка отправилась в Китай и Индию для сбора информации из правительственных и неправительственных источников и для беседы с бизнесменами и учеными. Они пришли к выводу, что исключение из общего числа выпускников тех, кто прошел двух– или трехлетний курс, уменьшит показатель по Китаю до 350 тысяч специалистов, но даже эта цифра, по-видимому, преувеличена ввиду разных определений понятия «инженер»: часто к этой категории относят автомехаников и ремонтных рабочих. Бялик отмечает, что Национальный научный фонд, который отслеживает такие статистические данные по Соединенным Штатам и другим странам, оценивает прирост специалистов в Китае как 200 тысяч ежегодно. Рон Хира, профессор политологии в Рочестерском политехническом институте, считает, что каждый год вузы Индии выпускают 120-130 тысяч молодых специалистов. Это означает, что в действительности США подготавливают на душу населения больше инженеров, чем Индия или Китай.
Эти данные никак не касаются качества образования. Как человек, который вырос в Индии, я с полной объективностью высоко оцениваю достоинства знаменитого комплекса политехнических вузов – Индийского технологического института (ИТИ). Самой сильной его стороной является управление одной из наиболее жестких и конкурентных систем вступительных экзаменов в мире. Триста тысяч абитуриентов участвуют в них, пять тысяч успешно сдают экзамены и становятся студентами, то есть «пропускная способность» составляет 1,7 процента (по сравнению с 9-10 процентами в Гарварде, Йеле и Принстоне). Те, кто выделяется из толпы, – единицы на миллиард, лучшие из лучших. Поместите их в любую систему образования, и они покажут себя во всей красе, но в действительности, многие из институтов ИТИ определенно второразрядные – с посредственным оборудованием, безразличными преподавателями и убивающей воображение методикой. Учившийся в ИТИ и затем перешедший в Калифорнийский технологический институт, Раджив Сахни говорит: «Главное преимущество ИТИ – вступительные экзамены, они организованы таким образом, чтобы отбор прошли только самые