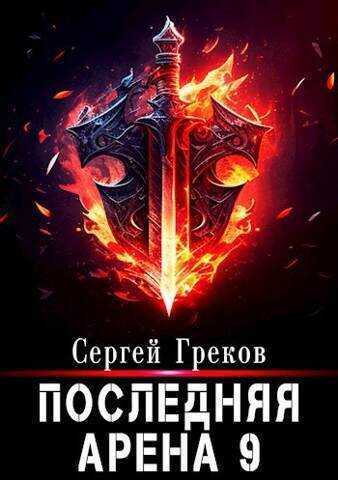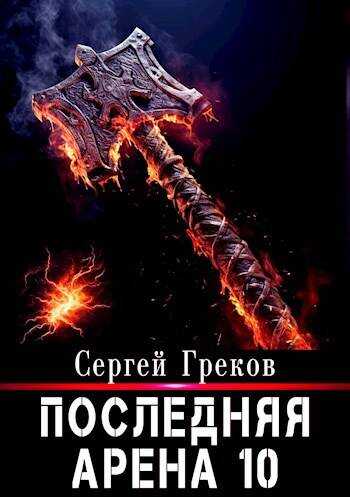но Соединенные Штаты и Австралия возражали против этого.) Это была практичная стратегия. Однако с учетом шаткого материального положения Британии средств для финансирования этого проекта не хватало. Судоремонтные верфи были слишком малы для флота, который мог бы противостоять Японии, горючего недоставало, фортификационные сооружения были весьма скромными. Когда японцы атаковали Сингапур в 1942 году, он пал через неделю.
Вторая мировая война стала последним гвоздем, вбитым в гроб экономической мощи Британии. (В 1945-м ВВП Америки был в десять раз больше британского.) Однако даже тогда Британия оставалась сравнительно влиятельной страной – отчасти благодаря практически сверхчеловеческой энергии и амбициям Уинстона Черчилля. Когда вы знаете о том, что Америка оплатила практически все затраты союзников, а на долю России пришлись самые большие потери в живой силе, становится ясно, какая воля потребовалась Британии, чтобы остаться одной из трех ведущих стран, решивших судьбу послевоенного мира. Фотографии Рузвельта, Сталина и Черчилля на конференции в Ялте в феврале 1945 года отчасти вводят в заблуждение. В Ялте не было «большой тройки». Там была «большая двойка» плюс один гениальный политический антрепренер, который сумел оставить себя и страну в игре, вот почему Британия сохранила множество признаков супердержавы во второй половине XX века.
Естественно, за это пришлось платить. Компенсируя займы, предоставленные Лондону, Соединенные Штаты взяли под свой контроль более десятка британских баз на Карибах, в Канаде, в Индийском и Тихом океанах. «Британская империя перешла к американскому ростовщику», – заметил один из членов парламента. Экономист Джон Меинард Кейнс был куда более сердит, по его словам, ленд-лиз был попыткой «отобрать у Британской империи ее лучшие части». Менее эмоциовальные наблюдатели видели, что это неизбежно. Арнольд Тойнби, к тому времени ставший выдающимся историком, успокаивал британцев, утверждая, что «рука Америки будет куда легче, чем рука России, Германии или Японии, – вот какие у нас альтернативы».
Важнейшим обстоятельством являлось то, что крах Британии как великой мировой державы произошел не из-за негодной политики, а из-за негодной экономики. Британия имела огромное влияние в мире, но ее экономика была структурно слабой. Ситуация еще более усугублялась опрометчивыми действиями, которые создавали проблемы, – уходом от золотого стандарта и возвращением к нему, введением имперских пошлин, увеличением военных долгов. После Второй мировой войны Британия приняла экономическую программу социалистов, план Бевериджа, согласно которому значительные сектора экономики подлежали национализации и жесткому регулированию. Как реакция на плачевное состояние страны это было понятно, но к 1960-м и 1970-м годам такая экономическая политика обрекла Британию на стагнацию – пока Маргарет Тэтчер в 1980-е не развернула британскую экономику в нужном направлении.
* * *
Несмотря на семидесятилетний закат экономики, ослабевшая рука Лондона демонстрировала чудеса политического искусства. История Британии преподает Соединенным Штатам несколько важных уроков.
Во-первых, очень важно отметить, что основная характерная черта упадка Британии – необратимое ухудшение экономических показателей – на самом деле неприменима к сегодняшним Соединенным Штатам. Непревзойденное экономическое положение Британии измерялось несколькими десятилетиями, тогда как экономический рост Америки продолжался более 130 лет. Экономика США стала крупнейшей в мире в середине 80-х годов XIX века и остается таковой сегодня. На самом деле с тех самых пор Америка сохраняет на удивление стабильный показатель ВВП в общем объеме мирового производства. За исключением коротких периодов в конце 40-х и в 50-х годах XX века – когда остальной промышленный мир лежал в руинах, а доля ВВП Америки выросла до 50 процентов! – на Соединенные Штаты на протяжении века приходилось около четверти мирового производства.
Согласно большинству прогнозов, в 2025 году экономика США по номинальному валовому внутреннему продукту все еще будет вдвое превосходить китайскую (хотя в категориях покупательной способности разрыв будет не столь велик).
Это различие между Америкой и Британией можно проследить по их военным бюджетам. Великобритания была владычицей морей, но никогда не правила сушей. Британская армия была довольно маленькой – как однажды ехидно заметил германский канцлер Отто фон Бисмарк, если бы британцы осмелились напасть на Германию, он просто арестовал бы их силами местной полиции. Более того, господство Лондона на морях – по водоизмещению британский флот превосходил тоннаж судов двух ближайших конкурентов, вместе взятых, – опустошало казну. Американская военная машина, напротив, господствует на всех уровнях – на суше, на море, в воздухе и космосе, – на ее содержание уходит больше средств, чем суммарный военный бюджет четырнадцати ближайших конкурентов США; расходы Америки составляют почти половину мировых средств, тратящихся на оборону.
Некоторые утверждают, что даже эти цифры военных расходов занижены, так как в них не включены затраты США на научные и технологические исследования военного характера. На исследования и опытно-конструкторские работы в области обороны США тратят больше всех остальных стран мира, вместе взятых. И, что очень важно, это никак не подрывает экономику. Расходы на оборону в процентах от ВВП сейчас составляют 4,1 – это ниже, чем во времена холодной войны. (При Эйзенхауэре они доходили до 10 процентов от ВВП.) Секрет кроется в знаменателе дроби. По мере роста ВВП США расходы, которые в противном случае были бы непосильными, становятся им по карману. Вы можете считать войну в Ираке или трагедией, или благородным делом. Однако в любом случае она не приведет к банкротству Соединенных Штатов. Война была дорогой, но общий ценник Ирака и Афганистана – 125 миллиардов долларов в год – не превышает одного процента ВВП. Для сравнения: Вьетнам стоил 1,6 процента американского ВВП в 1970 году и десятков тысяч жизней американских солдат.
Однако военная мощь США – это не причина могущества страны, а его следствие. Его горючим является экономическая и технологическая база, которая продолжает оставаться весьма прочной. Сегодня Соединенные Штаты оказались перед лицом куда более глубоких и серьезных проблем, чем те, с которыми страна когда-либо сталкивалась в своей истории, а экономический рост других стран означает, что США лишатся части своей доли мирового ВВП. Но этот процесс не будет похожим на закат Британии в XX веке, когда страна потеряла ведущие позиции в инновациях, энергетике и предпринимательстве. Америка сохранит действенную и энергичную экономику, останется на переднем крае всех последующих революций в науке, технологиях и промышленности – пока сможет справляться с брошенными ей вызовами.
Пытаясь объяснить, как Америка впишется в новый мир, я иногда говорю: «Оглянитесь по сторонам». Будущее уже наступило. За последние двадцать лет глобализация стала шире и глубже. Стало больше промышленно развитых стран, коммуникационные технологии уравняли положение игроков, капиталы свободно перемещаются по всему миру. И Америка извлекла огромную выгоду из этих процессов. Ее экономика получила сотни миллиардов долларов инвестиций – редкое явление для страны, обладающей столь значительным собственным капиталом. Ее компании успешно внедрились в