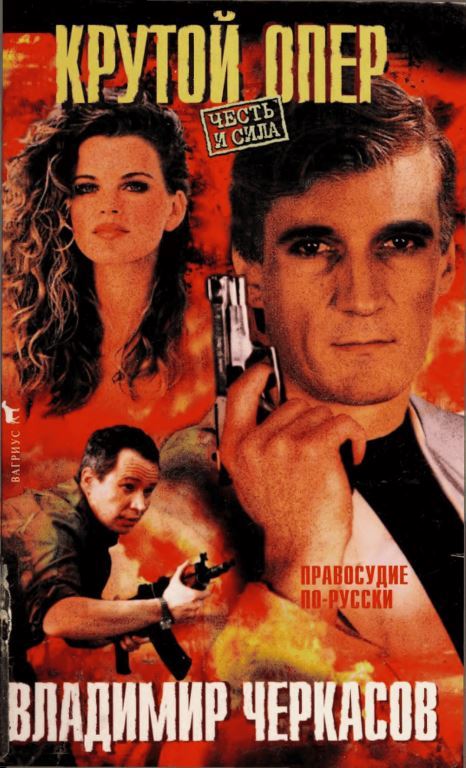Целлера. Тем, что сына ему отдал, я окончательно и продал душу свою чекистскому дьяволу. Оно как получилось? Стал Целлер меня тогда допрашивать, я про портсигар-то ему все и выложил. А они (Густавсон там тоже был — такой маленький) принялись меня все равно по спине — бить, почки отбивать. Я ими и так маюсь, смерть моя подошла. «Чего еще надобно? — спрашиваю. — Все исполню». Целлер и начал меня сговаривать против тебя на дело.
— Именно против меня? — спросил Орловский, видя, что, оказывается, его персоной, даже не появись он на Гороховой, и так бы чекисты занялись.
— Ага, Бронислав Иваныч. Ты ему, видать, был с самого начала нужен. Мы кумекали, как мне за тебя в комиссариате взяться, когда я из ЧеКа выйду. А тут ты сам выручать меня, мерзавца, пожаловал. Лишь ты на проходной появился, Густавсон ко мне в камеру забежал и приказал действовать по обстановке. Ну, а потом Целлер продолжил наш театр. Сына же моего, беспутного пьяницу, они позвали служить в свою отдельную роту ЧеКа. Андрейка согласился, ему, дураку, и на такое пойти, что штоф вина выпить…
Слезы текли по лицу старика, они тонули в его усах, бороде. На губах Колотиков их слизывал почти беззубым ртом, продолжая — мямлить:
— Я Целлера да Густавсона просил, чтобы не отнимали сынка-то единственного у меня, супруга моя от тифа зимой померла. Мало им, что ли, из меня, православного, Божью душу вынуть? А они: «Разве мы отнимаем сына? Он человеком при нас будет». Не знаю, чем Андрейка у них занимается. Я тогда после ЧеКа, как ты велел, с нашей старой квартиры съехал, и он у них в казарме где-то за городом живет. Чего там делают? Может, людей расстреливают… Тем убивцам перед казнью по бутылке спирта дают, я на Гороховой слыхал, Господи.
Переживания чекистского агента, определившего сынка в расстрельную команду, Орловского не занимали, и он вернул разговор в нужное русло:
— В чем же должна состоять твоя работа со мной?
— А вот сегодня послали тебя попытать про происхождение. Тот ли ты, за кого себя выдаешь.
— Ну и как сейчас оценили на Гороховой твой отчет? Кому ты рапортовал?
— Сам Целлер выслушивал, — вздохнул и вытер картузом мокрые глаза Колотиков. — Какое у него впечатление, не могу знать. Он свои мнения и мыслишки прячет наглухо. Я подробно доложил наш разговор и твои ответы, возмущения. Он приказал за новым заданием явиться через три дня.
Орловский спрятал кольт в карман шинели, проговорил мягче:
— Вроде не врешь ты мне. Теперь вот что скажи. А почему ЧеКа решила мной заняться, как думаешь?
Старый привратник взглянул на него как многоопытный человек.
— Об этом мне не докладывали. Но думаю, что не поверили на Гороховой в ограбление твоего кабинета. Ты в ограблении у Туркова сомневался, а чекисты — у тебя.
— Выходит, что один Турков глупый, — усмехнулся резидент, — заподозрил лишь твою особу.
— Нет, — покачал головой Колотиков, — умен и Мирошка. Я так подумываю, а не сдал ли он меня дружку своему Целлеру для того, чтобы против тебя чего вынюхать?
— Вон даже как? И ты не прост, Иван Мокеевич. Хитроумие сразу различаешь.
— Эх, Бронислав Иваныч, будь я вам всем под стать, разве ж мне почки на Гороховой стали отбивать да пьяного сына душегубом делать? Однако насколько моей смекалки хватает, тебе подскажу, что в последние дни прямо ополчился против тебя Целлер. Затягивали-то они меня с Густавсоном в это дело больше, думаю, на всякий случаи. А вот задание к тебе домой идти давали вчера уже специально, словно после той кражи еще разведали про тебя что-то подозрительное.
Орловский понял, что это «что-то» наверняка паспорт Захарова-Захарина. Значит, нашли его чекисты после перестрелки офицеров с гаврилками в зале ожидания таможни и заинтересовались происхождением документа. То есть произошло так, как он себе представлял, с самыми худшими для себя последствиями.
Резидент поглядел на Ивана Мокеевича, обреченно стоящего у стенки, и заметил:
— Ты, я вижу, все-таки относишься ко мне неплохо.
— А как я могу иначе, Господи! Вы мне и про портсигар тогда поверили, — снова уважительно перешел на «вы» привратник. — И вообще, не их вы гнилого роду-племени, это я вам сегодня от всего сер>дца сказал. Привратника да швейцара, официанта тут не проведешь. Что я, барина не почую? От ваших разговоров, батистовых подворотничков на гимнастерке, походки и другого прочего породой столбовой несет, — бормотал Колотиков, жалко всхлипывая.
— Неужели? Ты так и сказал Целлеру?
— Ничего такого я ему не говорил, — отозвался Мокеевич. — Чтобы целым остаться, мне достаточно приказания Целлера формально исполнять. Много чести будет, чтобы такой гниде я нутро свое выкладывал… Эх, как Андрейка к ним свернулся, жизнь мне уж не больно мила.
— Ежели ты находишь нужным чекистам кое-что не договаривать, не поделишься ли этим со мной; например, твоими впечатлениями от посещения моей квартиры? — попросил Орловский.
— Извольте, Бронислав Иванович. Не поверил я, что дамская обувка у вас в прихожей от старых хозяев. А на кухне — фартучек, каким женщина только сегодня пользовалась, с пятнами от воды. Вы такого фартука не наденете на себя. Ясно, что не один живете, но зачем-то скрываете этот факт. И еще подозрительно, что пахнет у вас даже в прихожей будто в лазарете. Этот запах нынче любой петроградец за версту различит. Болезнь да смерть как косой косят… И в комнаты почему-то не захотели вы меня пустить. Как барин вы вели себя правильно, но комиссар простого человека никогда на кухне принимать не станет. Это все тоже не докладывал я Целлеру.
— Спаси тебя Христос, Иван Мокеевич, ежели правду говоришь, — вырвалось у Орловского. — А убивать я тебя так и так не стал бы. Тебе, это ты верно сразу отметил, у чекистов теперь клин. Я ведь могу сейчас же, лишь тебя отпустив, к Целлеру пойти и наш разговор пересказать. И он поверит, потому что про службу у них твоего сына я не мог узнать ни от кого, кроме тебя. Провалившийся агент у чекистов заслуживает лишь пули. Поэтому снова отпускаю тебя на все четыре стороны.
Иван Мокеевич упал перед ним на колени, согнулся в земном поклоне и запричитал, словно евангельский мытарь:
— Прости меня, грешного!
Выйдя на Исаакиевскую площадь, Орловский поглядел на возведенную в начале этого века гостиницу «Астория», где проживал популярный петроградский журналист Ревский, его агент.
В роскошном фойе «Астории», захваченной в первые дни февральской революции отрядами рабочих и солдат, теперь было спокойно, как встарь. Орловский, предъявив дежурному комиссарское