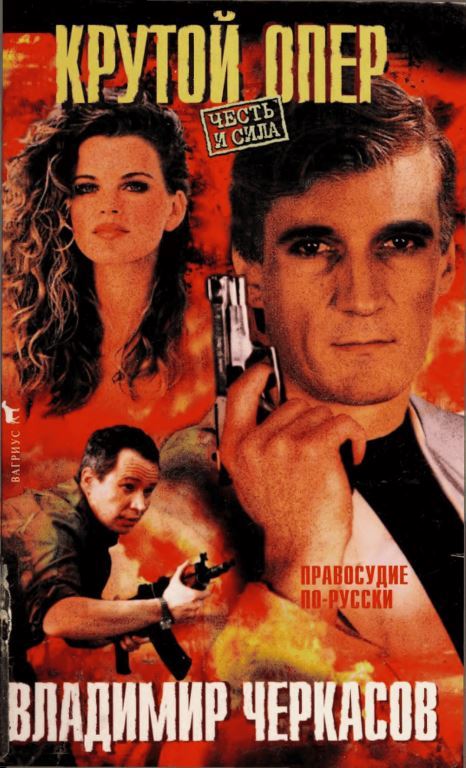удостоверение, стал подниматься наверх.
Ревский, слава Богу, ночевал сегодня без очередной дамы. На стук Орловского он открыл дверь своего номера и, увидев гостя, любезно кивнул. Потом с извиняющимся видом переложил приготовленный на всякий случаи револьвер из кармана стеганого, отороченного золотистой каймой атласного халата снова под подушку огромной кровати с расшитым райскими птицами одеялом. Как человек, готовый и привыкший к любым неожиданностям, если и среди ночи поднимут, он молча сел на диван и закурил папиросу, внимательно глядя на резидента непроницаемыми глазами.
Опустившийся в кресло напротив него Орловский без обиняков изложил историю с провокатором Мокеевичем.
— Довольно ловко за вас товарищ Целлер взялся, — усмехнулся Борис. — Прикажете мне провести ответную акцию?
— Вы правы, действовать придется вам, — одобрил его готовность резидент. — В Орге нет человека, более приближенного к Целлеру, чем вы.
— Нетрудно об этом догадаться, Бронислав Иванович. Я же за всеми подручными и приятелями Якова Леонидовича присматриваю с тех пор, как вы впервые заговорили о нем.
— Насколько помню по вашим сведениям, самые доверенные у Целлера комиссары это Густавсон, Бенами и Коссель?
— Так точно.
— Я выделяю Густавсона, который ходил на Гороховой за мной по пятам. И Колотикова он с Целлером готовил к провокации. Этот господин, судя по всему, поставлен на надзорную работу по моей персоне. Им и займитесь, пожалуйста.
Ревский затушил папиросу в пепельнице из яшмы, поглубже запахнул халат на широкой груди, протянул руку с браслетом, который и на ночь не снимал, к тумбочке и достал табакерку с кокаином. Вложил щепотку порошка в ноздрю, втянул в себя и произнес уже оживленно:
— Роман Игнатьевич Густавсон как нельзя более подходящий господин товарищ для того, чтобы его поймать с поличным на служебном преступлении. Труслив, мало выдумки, алчен. Я ему предложу продать мне присвоенное им при обысках золото.
Орловский скользнул глазами по шикарной обстановке номера и заметил:
— Несмотря на вашу богатейшую событиями жизнь и эти апартаменты, вы вряд ли на искушенного Густавсона произведете впечатление человека, скупающего золотые слитки или червонцы.
— Помилуй Бог, чтобы я эдаким миллионщиком попробовал предстать перед Романом Игнатьевичем. А насчет моей биографии вы изволили заметить совершенно справедливо. Именно из-за нее Густавсон мне все-таки поверит. Вы слыхали, что я у самого Алексея Николаевича Хвостова был особо доверенным лицом?
— Поговаривали, что вы в бытность Алексея Николаевича министром внутренних дел в пятнадцатом и шестнадцатом годах являлись едва ли не его близким приятелем.
Ревский неторопливо поправил полу халата на колене, обтянутом розовыми шелковыми кальсонами, пригладил белокурую волну растрепавшихся волос, придав лицу достойнейшее выражение.
— Считайте, как вам будет угодно, а история наших взаимоотношений с Алексеем Николаевичем такова. Мы сошлись, когда господин Хвостов был губернатором Нижегородской губернии, откуда я родом из дворянского семейства начальника уездной полиции. Я начал исполнять его секретные поручения, в особенности во время выборов в Государственную Думу видного местного деятеля «Союза Русского народа», издателя газеты Барана. Когда Алексей Николаевич стал министром внутренних дел. я, уже петербургский журналист, был принят по его личному желанию в агентуру Департамента полиции.
— Во время Великой войны вы были известны и другой деятельностью, — проявил осведомленность Орловский, занимавший тогда должность главного военного прокурора при штабе войск Западного фронта.
Ревский согласно кивнул:
— До этого на балканской войне я воевал добровольцем в болгарской армии, где получил знаки отличия. А в упоминаемый нами отрезок времени на Великой войне я был помощником уполномоченного Красного Креста Северо-Западного района.
— Хорошо помню и вашу знаменитую статью в «Биржевых Ведомостях» под названием «Мы готовы», появившуюся перед войной и наделавшую столько шуму, — уже с умыслом сказал Орловский.
Он знал, что эта статья была написана Ревским едва ли не под диктовку тогдашнего военного министра Сухомлинова в присутствии его сподвижника жандармского подполковника Мясоедова, уволенного со службы за взятки, а с началом Мировой войны назначенного в разведотдел 10-й армии. Военным следователем при Ставке Верховного Главнокомандующего в 1915 году Орловский расследовал дело Мясоедова о шпионаже в пользу немцев, за что того казнили. А в 1916 году сняли с должности Сухомлинова и отдали под суд по обвинению в злоупотреблениях и измене. На процессе это не удалось доказать, но бывший министр признал себя виновным в слабой подготовленности армии к войне. Из-под стражи его освободили пришедшие к власти Советы.
Таким образом на все «готовые» вдохновители борзописца Ревского расплатились за свои успокаивающие декларации, и Орловскому было интересно, как теперь его агент относится к той истории. Но беспардонности у Бориса Михайловича не убавилось, а, очевидно, еще прибыло после плавания в кровавом болоте ЧеКа, потому что Ревский лишь снова польщенно закивал.
— У вас отличная память. Но еще более я прославился, когда мне удалось проникнуть в келью Фло-рищевой пустыни, где был заточен враждующий с царской семьей и Григорием Ефимовичем Распутиным монах Илиодор, он же Сергей Труфанов, и напечатать в газетах беседу с ним.
— Как же, отменно помню и эту публикацию. Ежели не ошибаюсь, с нее у вас и начались неприятности по распутинским делам?
Борис огорченно поморщился.
— В общем, да. Как раз в этом история наших взаимоотношений с Хвостовым довольно печально и продолжилась. Когда расстриженный Илиодор сочинил свои грязные «воспоминания» о Распутине, теперь известные как книга «Святой черт», я сообщил Алексею Николаевичу, что могу оказать русскому правительству большую услугу, убедив Илиодора отказаться от выпуска мемуаров, компрометирующих Двор и особенно Цесаревича. Его высокопревосходительству господину министру мое предложение показалось весьма приемлемым, так как стало известно, что немцы собираются разбрасывать с аэропланов в наши окопы прокламации с заключающимися в рукописи сведениями.
— И тут, как всегда это бывает, с дурными последствиями вмешались деньги, — подсказал ему Орловский, чтобы Борис был определеннее и откровеннее.
— Увы, Бронислав Иванович. Для того чтобы ехать к Илиодору, жившему тогда в норвежском городе Христиания, я для начала взял у Алексея Николаевича пять тысяч рублей. Отправился к Труфанову и вел с ним переговоры…
— …уже об убийстве Распутина, как стало потом понятно из вашего покаянного к старцу письма, — продолжил уважавший друга царской семьи Распутина Орловский, чтобы Борис не вилял.
Безмятежный и благородный только на вид красавчик Ревский, сокрушенно вздохнув, согласился:
— Увы, с самого начала господин Хвостов предложил мне уговорить Илиодора на убийство Григория Ефимовича. Вы ведь не могли забыть и то, что едва ли не все эти так называемые лучшие люди России видели в Распутине лишь персону, марающую государя. Притом Хвостов уже едва держался на посту министра, и мог из-за ставшего тогда премьером Штюрмера слететь и даже попасть под суд.
— Как