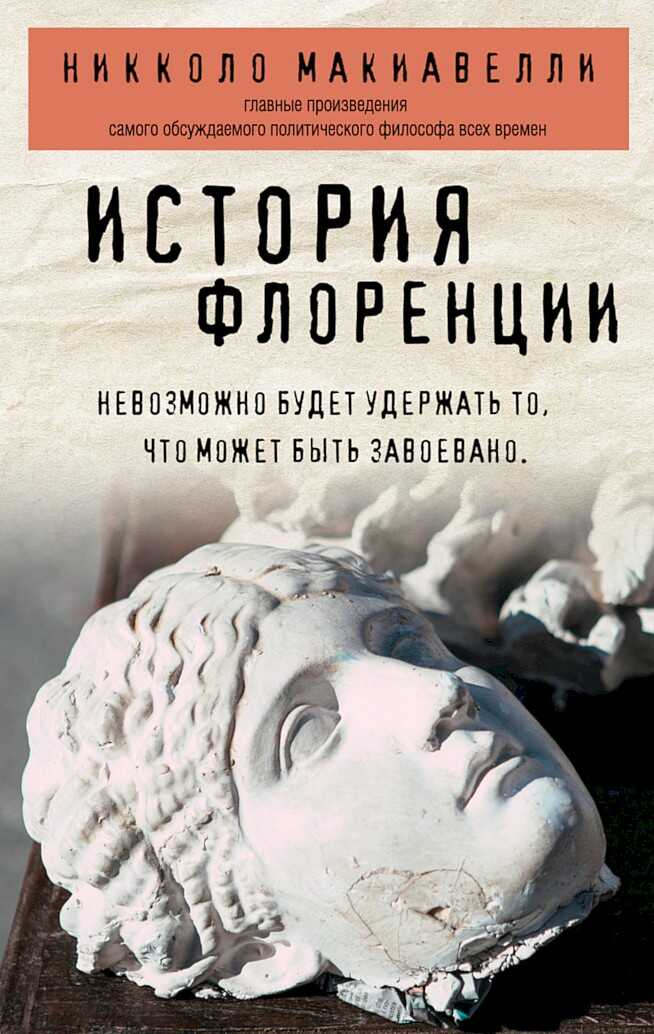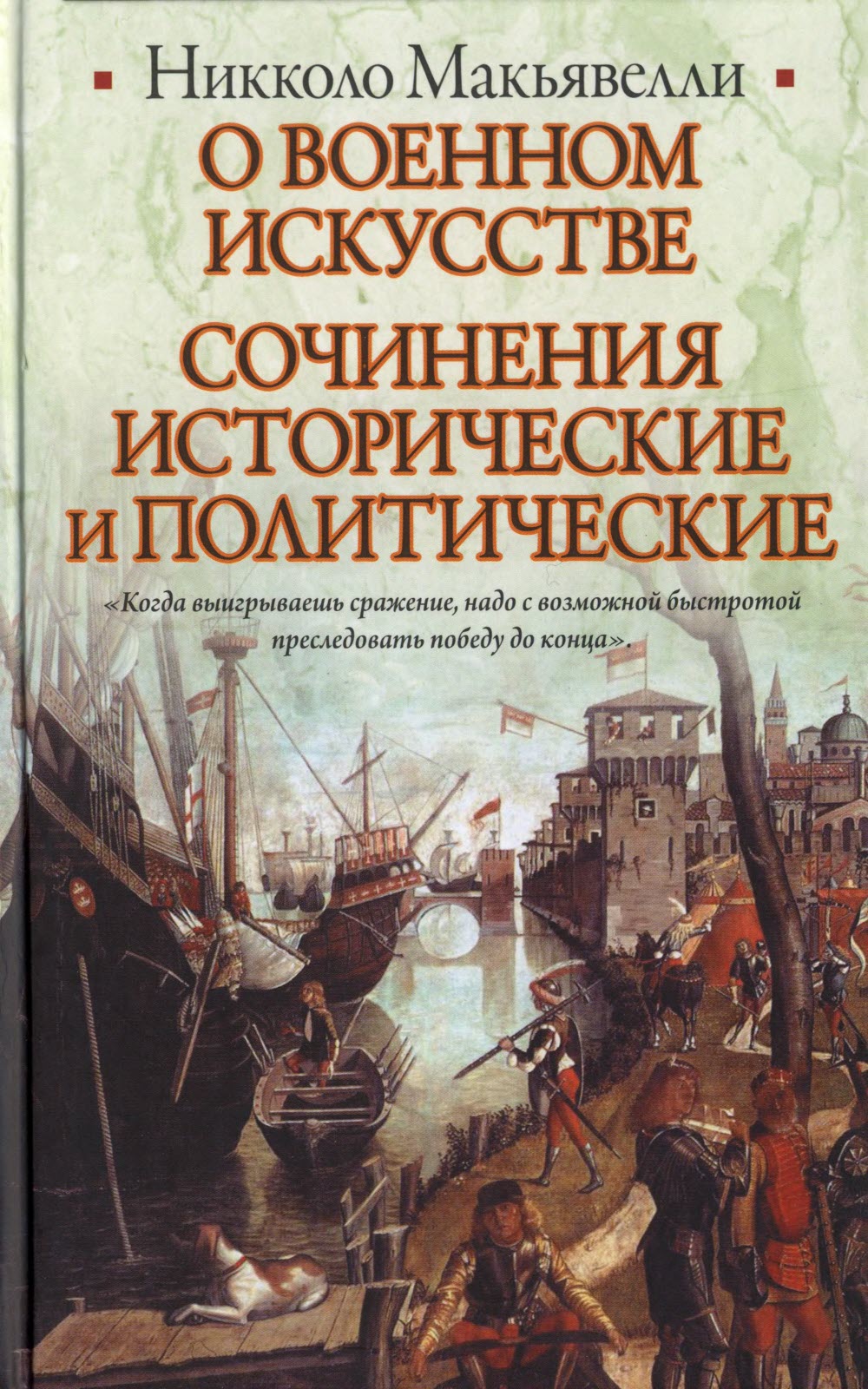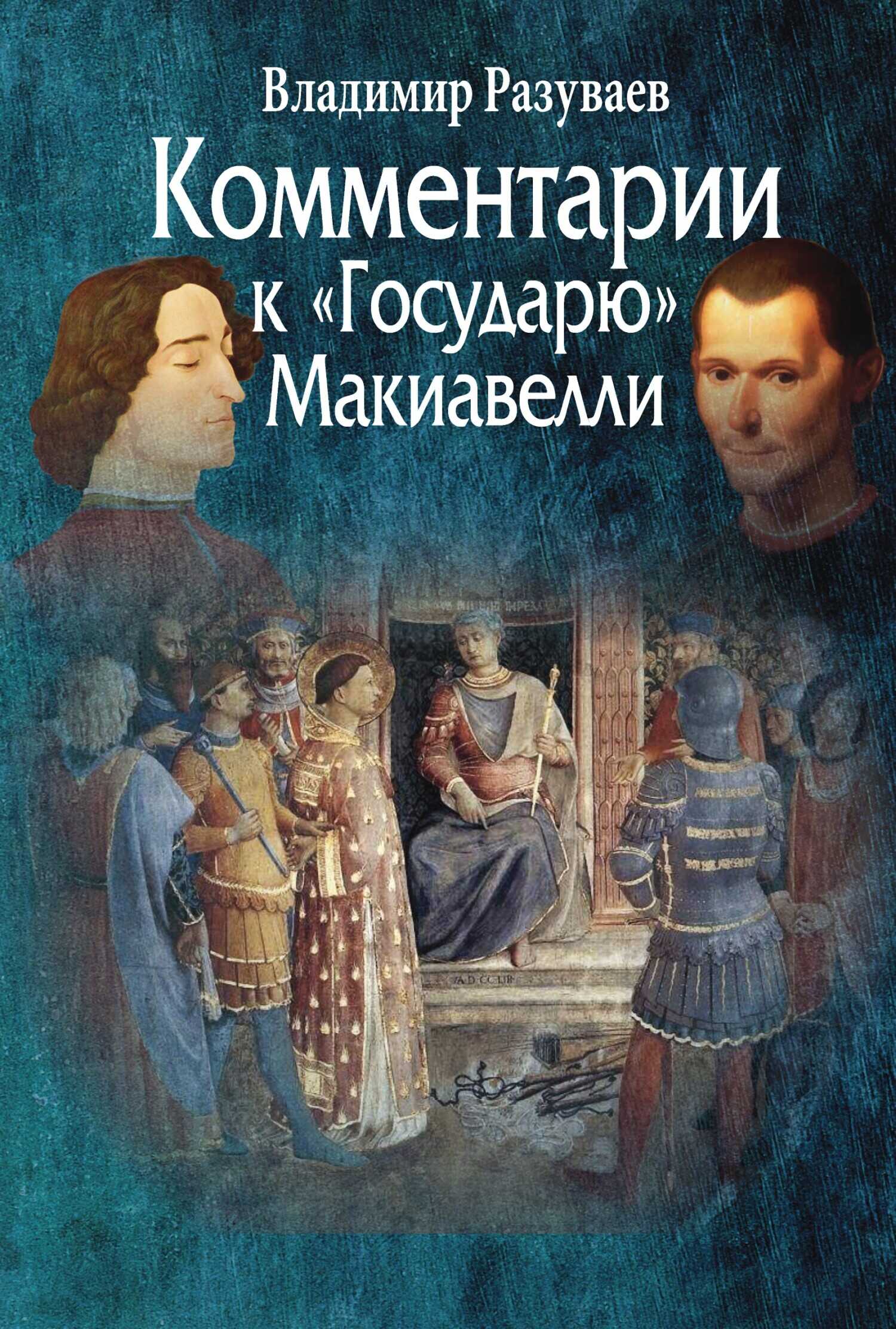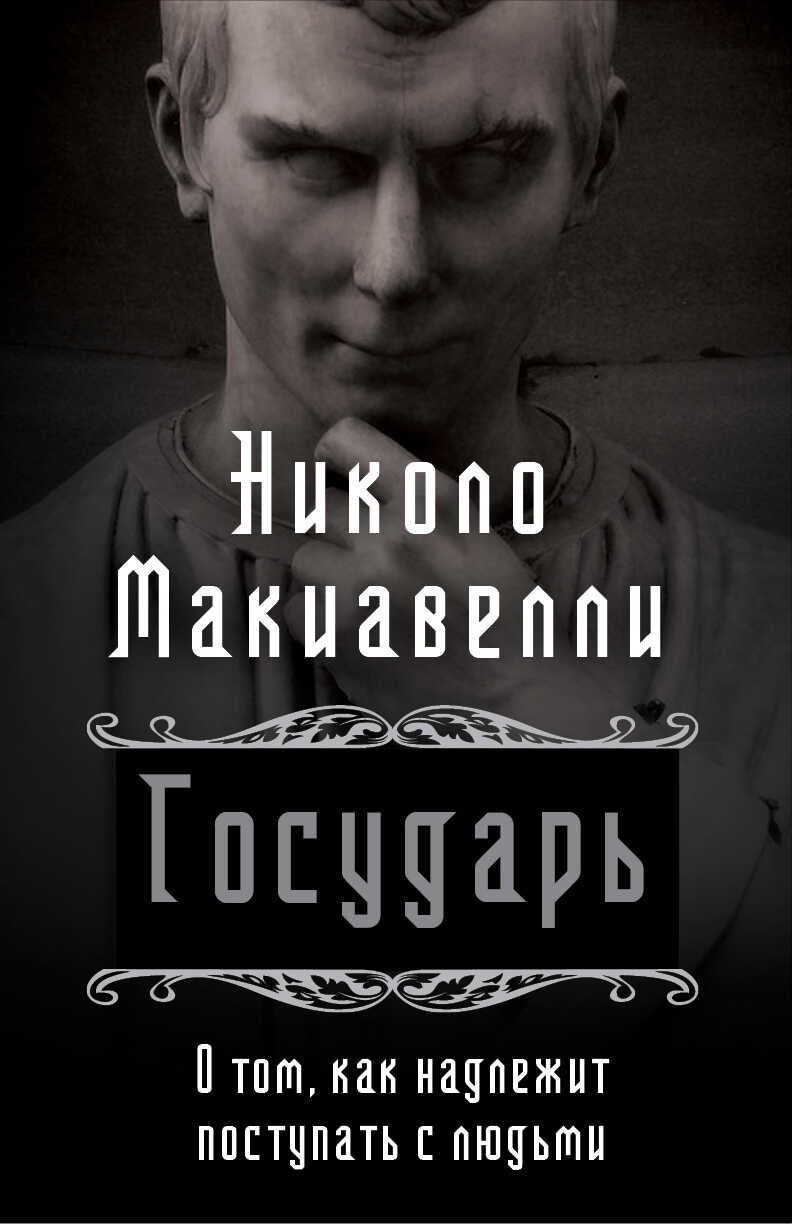Конечно, можно было уделить внимание одному только «Государю», идейная направленность которого, по сравнению с «Рассуждениями», не столь заметно определена влиянием античных авторов, но также можно было поступить несколько иначе – и максимально подчеркнуть разрыв Макиавелли с христианским и средневековым прошлым, сделав акцент на другом аспекте его произведений, призывавших подражать античным образцам. Именно по этому пути пошел Якоб Буркхардт, автор влиятельного труда «Культура Возрождения в Италии» (1860), в котором Италия XV–XVI веков представлена как неоязыческое, «индивидуалистическое» общество, открывшее нам путь к современной душевной чувствительности. По мнению этого великого швейцарского историка (который был также другом и коллегой Фридриха Ницше по Базельскому университету), именно тогда впервые правители стали формировать свои государства так же свободно, как скульпторы – свои произведения искусства, без всяких религиозных ограничений. Неоязычество периода Возрождения сделало этот сдвиг возможным, однако главную роль в этом эпохальном процессе сыграл Макиавелли. Буркхардт восхищается его беспристрастной «объективностью» и «откровенностью», особенно заметной в «Рассуждениях» (3.6), где заговоры рассмотрены и со стороны заговорщиков, и с точки зрения тех, против кого они сплетаются: «Он всегда воспринимает наличные силы как живые, активные, правильно и великодушно толкует альтернативы и не пытается обманывать себя или других»[51]. Труд Буркхардта получил международное признание, и, вероятно, никакая другая трактовка из всех, в свете которых прочитывались произведения Макиавелли в XIX веке, не оставила столь глубокого следа в последующих интерпретациях – за исключением разве что трактовки, предложенной Гегелем.
Впрочем, не только вдохновенное отношение к античным образцам и призыв им подражать мешали полноценно воспринимать творчество Макиавелли. С развитием политологии и социологии, со временем получивших академическое признание, все больше ученых начали сомневаться в том, верно ли Макиавелли понимает социальные явления. И когда Гаэтано Моска, крупнейший итальянский политический мыслитель XIX века и создатель теории элит, в «Началах политической науки» (1896–1923) заимствовал у флорентийца идею, гласившую, что «во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных постов достигает не более сорока – пятидесяти граждан» (Рассуждения 1.16), он одновременно отверг смешанный строй, одобренный Макиавелли, и упрекнул последнего в неспособности понять то, что сущность любой власти, какими бы именами та ни прикрывалась, остается олигархической. Именно поэтому Гаэтано Моска считал, что Макиавелли остался мыслителем донаучной эпохи и «творцом» политики его можно назвать лишь в том случае, если вложить в это слово отрицательный смысл.
Однако другой основоположник теории элит, Вильфредо Парето, был настроен более одобрительно и даже сослался на восемнадцатую главу «Государя» в «Трактате по общей социологии» (1916), где разделил политических акторов на две группы: новаторов, иными словами, хитрых «лис» (в экономике – «спекулянты»), и сторонников традиций, или «львов», полагающихся на силу (в экономике – «рантье»).
В целом по сравнению с оживленностью дискуссий в предыдущие века образ Макиавелли в значительной степени потускнел, хотя его труды увлечено читали крупные политические мыслители – Бенжамен Констан, Джон Стюарт Милль, Алексис де Токвиль, Джузеппе Мадзини, Карл Маркс, Фридрих Ницше. Казалось, что его творчество можно свести к нескольким главам «Государя» (с шестой по восьмую, с пятнадцатой по восемнадцатую и двадцать шестой), а вопросы, которые его волновали, – к соотношению этики и политики и к необходимости объединения Италии любой ценой. Кстати, эти темы в те годы часто звучали в антикатолическом ключе, учитывая, что в дни Рисорджименто церковь противилась народно-освободительному движению. И хотя в 1869 году, когда праздновалось 400-летие со дня рождения Макиавелли, его помпезно прославили как провозвестника создания национального государства, а ученые впервые приступили к подробному исследованию его жизни и творчества (Франческо Саверио Нитти, Паскуале Виллари и Оресте Томмазини написали его биографии, а британский ученый Лоуренс Артур Берд дал исторический комментарий к «Государю»), ни один другой период, пожалуй, не характеризовался столь ограниченным представлением о бывшем флорентийском секретаре.
Даже в XX веке творчество Макиавелли на протяжении долгого времени рассматривали в свете идей Великой французской революции и воззрений Гегеля, особенно в Италии и Германии. По завершении Первой мировой войны (1914–1918) в последней начались глубинные преобразования. Германская империя, основанная канцлером Отто фон Бисмарком в 1871 году, была упразднена, и ей на смену пришла республика. Но попытки разорвать связь с прошлым – в частности, посредством демилитаризации прусского общества – натолкнулись на мощное сопротивление, что вызвало ожесточенный конфликт между новаторами и теми, кем овладела ностальгия по старым временам. В то время Германия уже дольше столетия носила статус философского сердца Европы, а кроме того, в ней создавалась новая форма исторических исследований, основанных на архивных изысканиях и современной филологии. Поэтому неудивительно, что после войны в стране, столь богатой мыслителями и учеными, возникли плодотворные идеи.
Справедливо это и для исследований наследия Макиавелли. Когда потерпела крах силовая политика Пруссии и наступил период великой неуверенности и даже отчаяния, ученые старшего поколения обратились к «Государю», чтобы обсудить роль силы в обществе и международных отношениях. В 1919 году великий социолог Макс Вебер прочитал в Мюнхенском университете лекцию на тему «Политика как призвание и профессия». И хотя он ни разу не упомянул про Макиавелли, многочисленная аудитория, как впоследствии и читатели его книг, предположила, что одним из главных объектов его внимания был именно флорентийский мыслитель. Вебер, развивая тезисы, уже разработанные в его предыдущих трудах, оригинально противопоставил «этику убеждения» и «этику ответственности». Первая, типичная для религий и революционных движений, утверждает, что люди должны обращать внимание только на доброту своих убеждений, не слишком заботясь о возможных последствиях. Вторая, напротив, призывает их тщательно продумывать возможные последствия своего выбора, но при этом признает, что в определенных условиях насилие может быть неизбежным во имя высшего блага, – именно эта мысль и выражена в «Государе».
К произведениям Макиавелли обращался и выдающийся историк Фридрих Мейнеке, автор объемной монографии «Идея государственного разума в новой истории» (Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, 1924). Размышления о катастрофических последствиях немецкой агрессии тревожили его непрестанно, словно навязчивая идея, и в его большом нарративе, охватившем период от Макиавелли до Бисмарка, современная европейская история показана через контраст между политикой силы, подобной неукротимому зверю, и морализаторскими попытками сдержать борьбу держав за превосходство. Мейнеке, как и Якоб Буркхардт, полагает, что Макиавелли был мыслителем-неоязычником и что именно антихристианская позиция позволила ему восстановить теорию «государственного интереса», заимствованную у античных авторов, после чего он довел ее до крайности. Однако Мейнеке интересовал не только исторический аспект: его работа была призвана стать руководством к действию в современную эпоху. Как отмечали некоторые из ее первых рецензентов, в частности немецкий правовед Карл Шмитт и итальянский философ Бенедетто Кроче, либеральный консерватор, книга построена на ряде бинарных противопоставлений (krátos против éthos; корысть против этической нормы; сила против права; эмпирическая реальность против естественного права; природа против культуры). Мейнеке