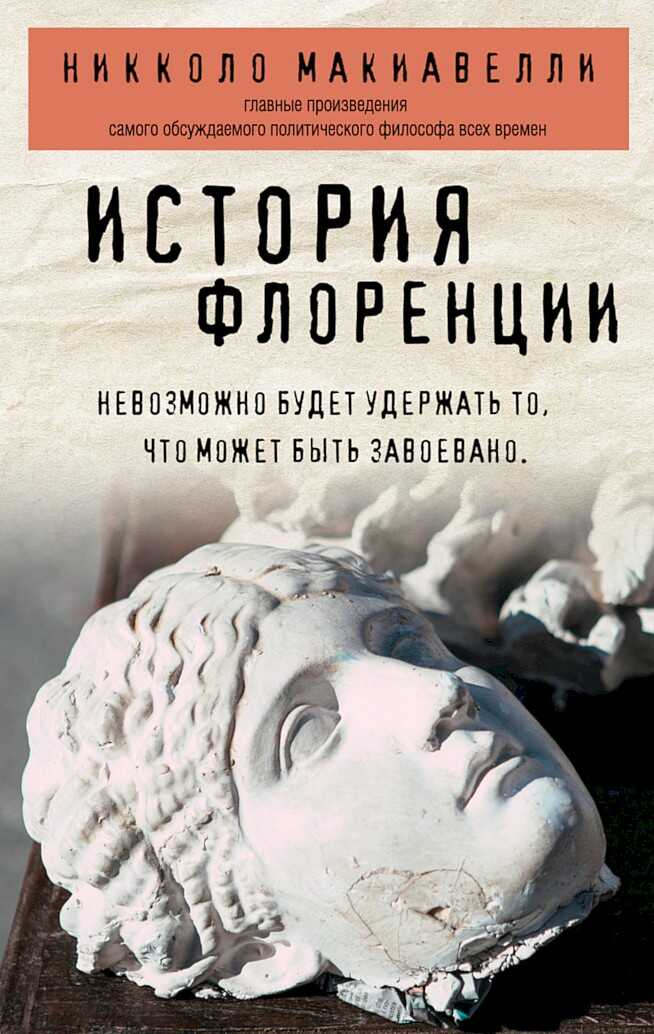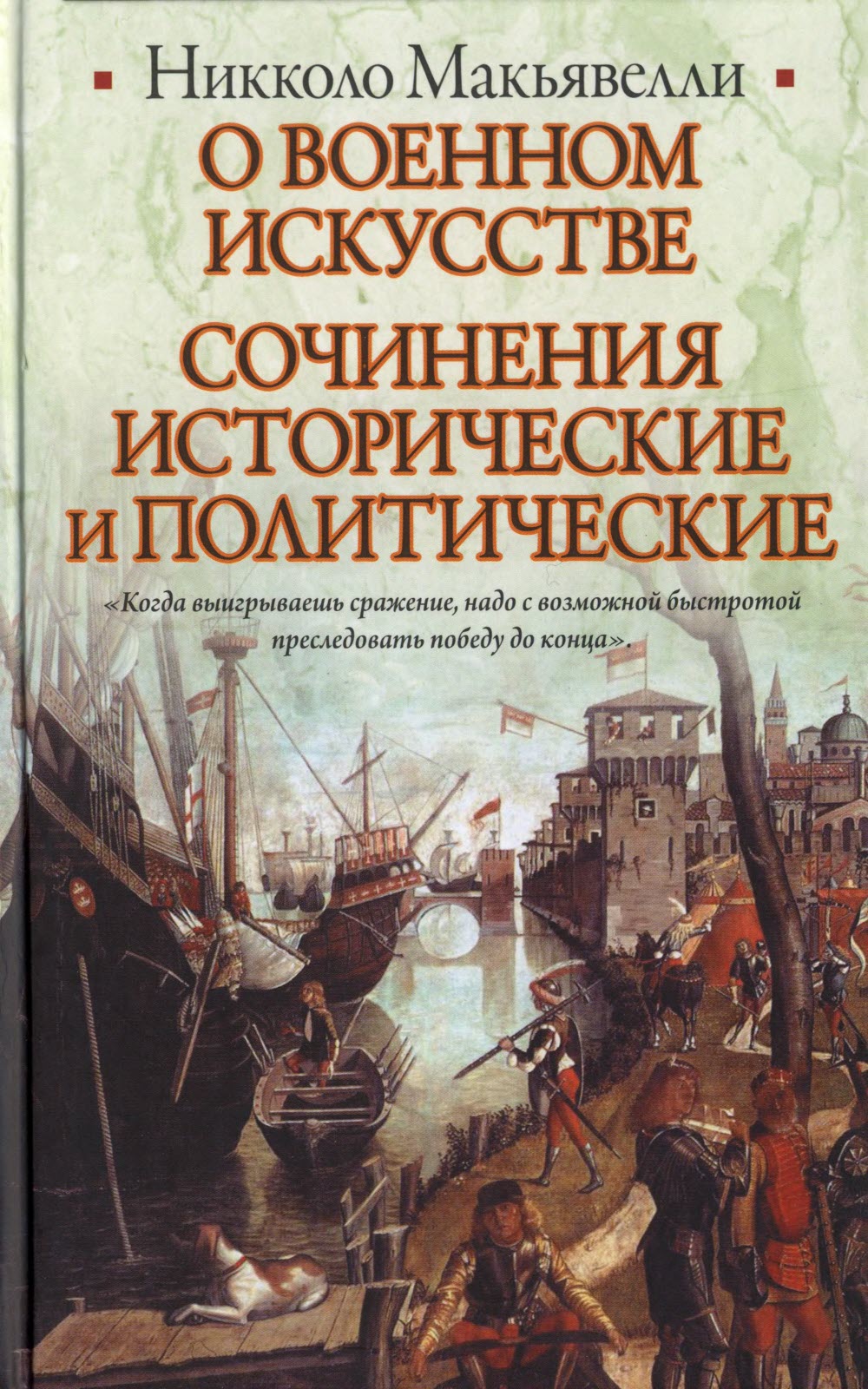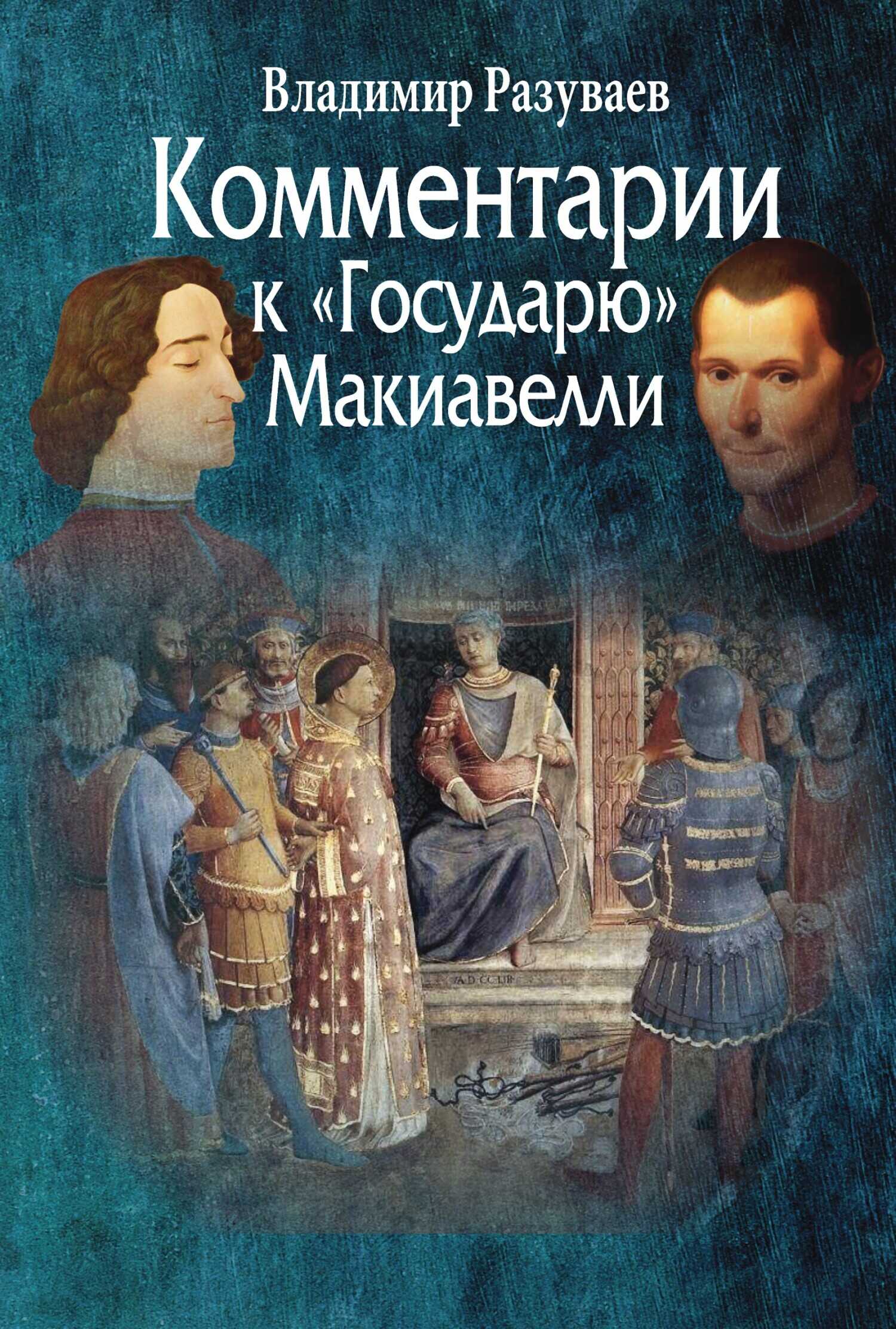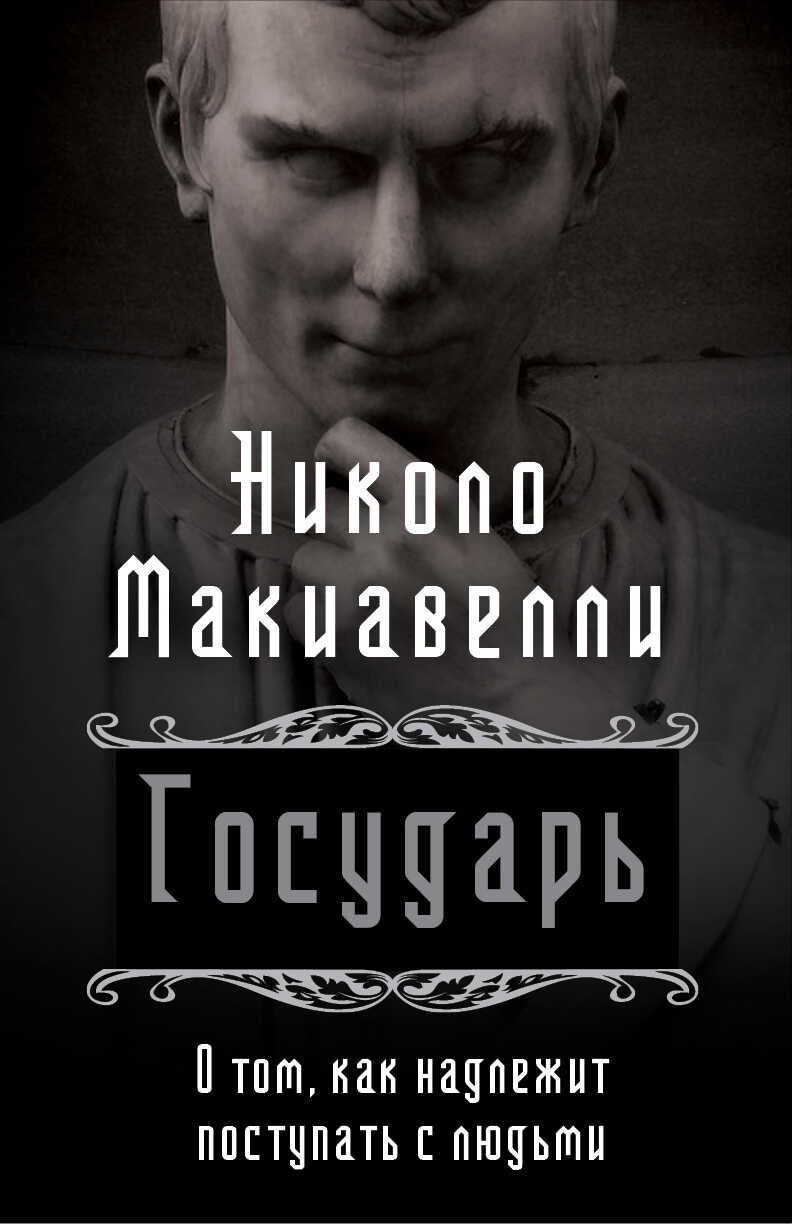вероятно, была использована в памфлете малоизвестного полемиста Ф. де Мазера «О Макиавелли и влиянии его учения на мнения, нравы и французскую политику в дни революции» (De Machiavel et de l’influence de sa doctrine sur les opinions, les moeurs et la politique de la France pendant la Révolution, 1816). Кроме того, в том же году в печати с определенным успехом начала циркулировать подделка за авторством реакционного аббата Эме Гийона с «рукописными заметками», которые якобы внес Наполеон в свой личный экземпляр «Государя».
Однако эти нападки привели к любопытным последствиям. Как это иногда бывает в подобных случаях, формулировка оказалась удачной, однако вскоре на нее начали притязать те, кто поддерживал Великую французскую революцию и хотел, чтобы их революционные идеи были связаны с таким прославленным предком. В 1830-х годах подобные произведения появились в Германии, затем во Франции и Италии. С этого момента освобождение политики от уз христианской морали все чаще представлялось как одна из неотъемлемых черт политического модерна, с отсылкой к Макиавелли, причем в одобрительных тонах.
Вольф и его последователи были не одиноки. Несколькими годами ранее в серии произведений, начатых в 1798 году и долгое время остававшихся неопубликованными, другой сторонник Великой французской революции, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, выдвинул еще более экстремальную идею: верховное право государства совершать любые действия, даже если они противоречат общепринятой морали и религии. Ориентируясь на современные ему события, Гегель в своих «Иенских лекциях» (Jena Lectures, 1805) писал:
«Это государство есть простой абсолютный дух, который знает самого себя и для которого не имеет силы ничто, кроме него самого, – не имеет силы понятие о хорошем и дурном, позорном и подлом, о коварстве и обмане; он выше всего этого, ибо зло примирено в нем с самим собой. В этом высоком духе написан «Государь» Макиавелли, согласно которому при конституировании государства то, что называется убийством, коварством, бесчеловечностью и т. д., не имеет значения зла, а имеет значение примиренного с самим собой. <…> Его отечество было растоптано чужестранцами, опустошено, лишено самостоятельности; каждый дворянин, каждый предводитель, каждый город утверждал свою суверенность. Единственным средством основать государство было уничтожение этих суверенитетов»[47].
За беспощадную борьбу с мелкими феодальными державами Италии даже Чезаре Борджиа, представший в «Государе» Макиавелли, был превознесен как пророк современного государства. Через несколько лет эта же концепция со множеством исторических подробностей вновь появилась у Гегеля во влиятельных «Лекциях по философии истории», опубликованных посмертно в 1837 году:
«Так же образовалась Папская область. И здесь бесчисленное множество династов сделалось независимым; мало-помалу все они подчинились власти папы. Из знаменитого сочинения Макиавелли “Государь” видно, что в нравственном смысле это подчинение было вполне правомерно. Эту книгу часто с отвращением осуждали как проникнутую правилами самой жестокой тирании; однако Макиавелли, руководясь высоким сознанием необходимости формирования государства, формулировал те правила, соответственно которым должны были образоваться государства при обстоятельствах того времени. Отдельных властителей и отдельные владения необходимо было полностью подавить, и если мы не можем согласовать с нашим понятием о свободе те средства, которые он признает единственными и вполне справедливыми, потому что к этим средствам принадлежат самое беззастенчивое насилие, всевозможные виды обмана, убийства и т. д., то мы все же должны признать, что бороться против династов, которых нужно было свергнуть, можно было только таким способом, так как они отличались упорною бессовестностью и полною развращенностью»[48].
Следовательно, во имя будущего порядка и справедливости допустимым становилось практически все. Как мы видели, уже в римском праве утверждалось, что перед лицом чрезвычайной угрозы правомерны исключительные средства, если они спасут общество от уничтожения. Однако позиция Гегеля звучит гораздо радикальнее. В сущности, на примере Италии XVI века он ясно демонстрирует свои представления об одной из главных черт нового государства современной эпохи – о той, которую, по крайней мере по его личному мнению, выявила Великая французская революция и предвидел еще Макиавелли: это превосходство политики над этикой как нормальный атрибут любой подлинно суверенной державы. Все выглядело так, словно негативная интерпретация «Государя» в духе абсолютистского трактата, которую предложил когда-то Агостино Нифо, превратилась в полностью позитивную. (Хотя надо отметить, что во времена Гегеля труд Нифо «Об опыте власти» был уже полностью забыт.)
Ясно, что Гегель мыслил не абстрактно: его заботы касались прежде всего Германии, все еще разделенной на десятки мелких политических образований и поэтому особенно уязвимой. Но это волновало не только его. В 1807 году, когда Германию оккупировали войска Наполеона, на «Государя» ссылался другой ведущий представитель немецкого идеализма, Иоганн Готлиб Фихте, призывавший своих соотечественников освободить страну от угнетателя – как и Макиавелли в двадцать шестой главе. Вообще говоря, после Великой французской революции Макиавелли все чаще воспринимается как мыслитель-новатор и предвестник в высшей степени радикальных перемен, пусть даже мнения толкователей о том, какие именно реформы отстаивал «Государь», могли существенно различаться. Так, после поражения в континентальной Европе Весны народов – революции 1848–1849 годов, направленной против монархического абсолютизма, – итальянский эмигрант и философ-республиканец Джузеппе Феррари написал на французском языке книгу «Макиавелли, судья революций нашего времени» (Machiavel juge des révolutions de notre temps, 1849), а французский республиканец и журналист Эдгар Кинэ в своей написанной в швейцарской эмиграции воинственной многотомной монографии «Итальянские революции» (Les Révolutions d’Italie, 1848) назвал «Государя» «марсельезой Возрождения».
Однако в период Рисорджименто[49] труды Макиавелли прежде всего ценились именно за патриотический призыв к объединению Италии. И когда в 1870 году к молодому государству, возникшему лишь девятью годами ранее, был окончательно присоединен Рим, ведущий литературный критик того времени Франческо де Санктис, поплатившийся за свои либеральные идеи изгнанием из Королевства обеих Сицилий, вставил в главу о Макиавелли, которую он составлял для своей «Истории итальянской литературы» (1870–1871), упоминание об окончательной победе национального дела. «Сейчас, когда я пишу эти строки, раздается звон колоколов, возвещающих о вступлении итальянцев в Рим. Светская власть церкви рушится. Раздаются возгласы: “Да здравствует объединение Италии! Да славится имя Макиавелли!”»[50].
Если в XIX веке наблюдались реабилитация и триумф Макиавелли, то в течение ста тридцати лет, прошедших от Реставрации Бурбонов (1815) до Второй мировой войны (1939–1945), читатели концентрировали свое внимание почти исключительно на «Государе», все чаще упуская из виду «Рассуждения». Вероятно, отчасти это произошло из-за постоянного обращения Макиавелли к античным авторам – ведь в те дни романтики восстали против классицизма и призвали радикально снизить уровень эстетических ценностей, поставив стихийную силу творческого гения выше подражания в литературе и искусстве. Как говорил еще Джордж Байрон, «беда поэту, если память превосходна». Как же могла культура, столь гордая своим стремлением к современности, оценить произведение, в котором так настойчиво подчеркивалась необходимость следовать по стопам республиканского Рима?