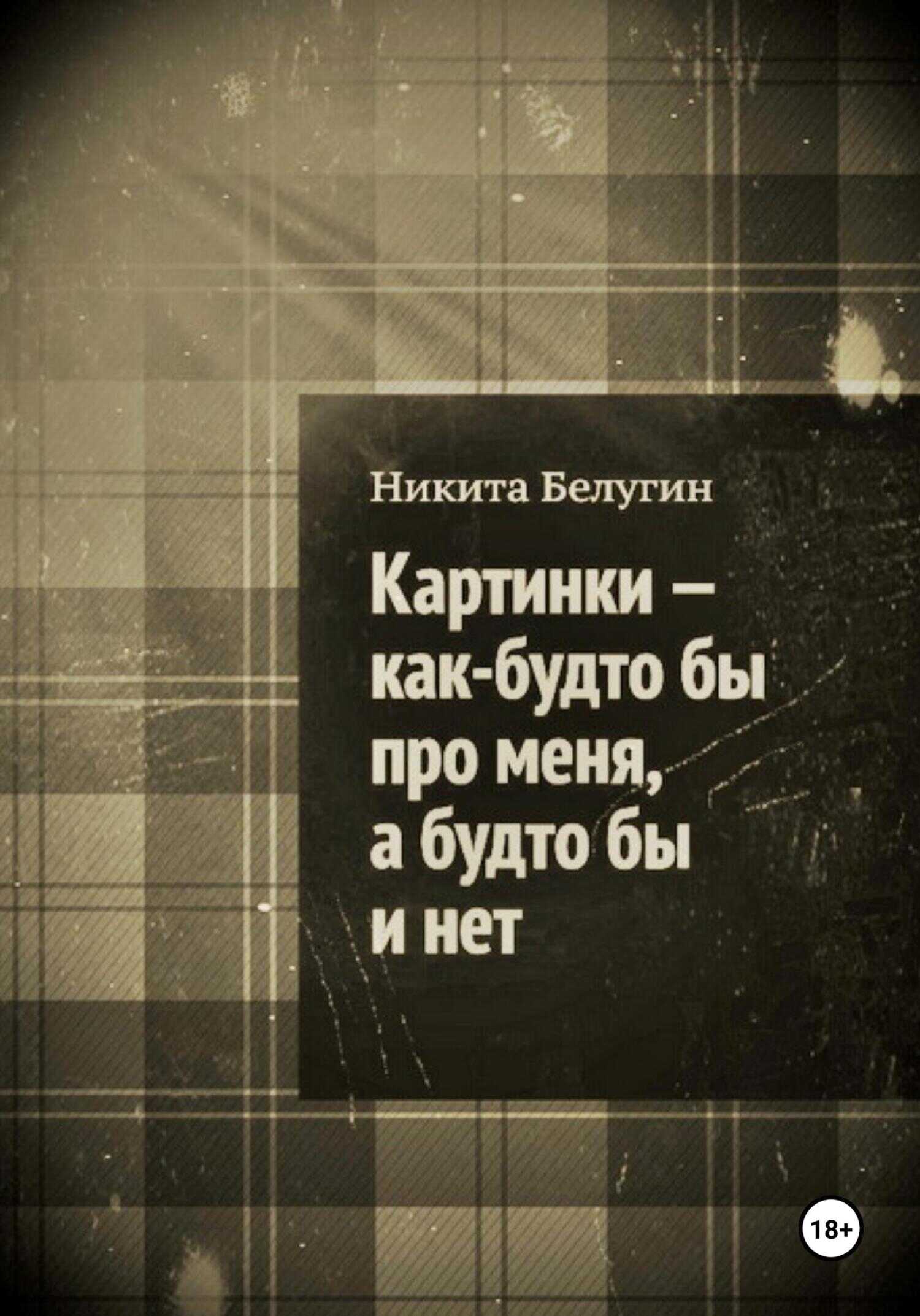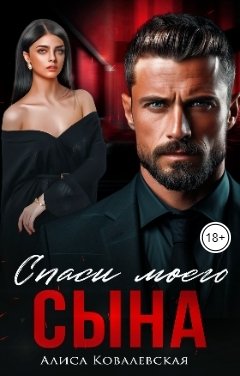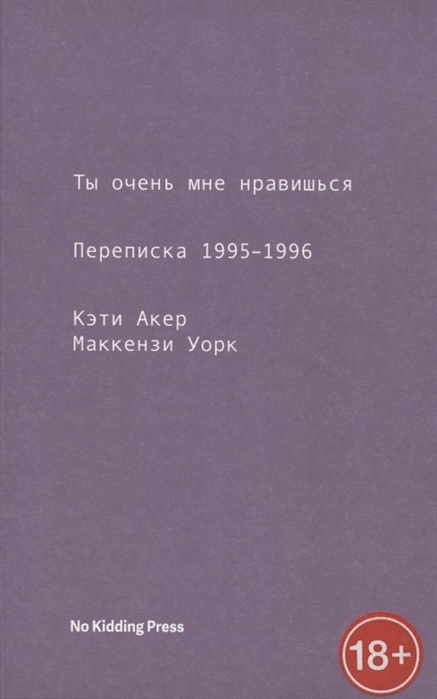тот летний день, когда она в первый раз пела мне и точно так же зарывалась щекой в цветы, только те были желтые.
— Я видела лес, — ответила она неожиданно. — Я сегодня пошла не на берег, а в горы, забралась по заброшенной тропинке глубоко-глубоко, и там оказалась долина, вся поросшая лесом, представляешь?
Она была такая счастливая, что я едва решился вставить слово.
— Ну, это был ненастоящий лес, — успокоительно заверил ее я. — Южный, наверное, низкорослый.
Лидия вскочила и отложила цветы в сторону.
— Нет-нет, — весело перебила она меня. — Сосны, ели, прямо до небес, как на севере! Я подумала, это какое-то волшебство! Мне этот лес снился точь-в-точь таким. Он был такой дремучий, что я едва нашла дорогу назад!
Она была очень взволнована и ходила по крыльцу взад-вперед, и улыбалась мне.
— Я зашла в самую глушь, и свет так падал, что деревья были как будто голубые. Ты знаешь, — она вдруг замерла. — Ты знаешь, это было самое прекрасное место, которое я видела за всю свою жизнь. Я даже написала стихотворение!
И она помахала над головой своей бумажкой, а потом еще и засмеялась от переизбытка чувств. Внутри дома, на веранде, горела лампа, и я впервые почувствовал, какими холодными и сумеречными стали вечера накануне осени. Мои цветы лежали рядом с пепельницей, над которой все еще тонко поднимался дым.
— Тогда уходи, — сказал я Лидии.
Она обернулась и посмотрела на меня смешными круглыми глазами.
— Что ты сказал? — переспросила она.
— Уходи, — повторил я. — Уже холодает, по холоду путешествовать неприятно. А так к первому снегу будешь дома.
Я изо всех сил старался говорить спокойно, а про себя твердил: уходи, ну уходи же скорее, Анни, оставь меня, наконец, в покое, оставь меня одного, ну сколько можно меня мучить! Но Лидия все смотрела на меня и не двигалась с места, и тогда я не выдержал:
— Чего ты стоишь? Уже темнеет, а тебе надо собираться. Поторопись!
Она собрала рассыпавшиеся цветы, прижала их к животу, словно он у нее вдруг заболел, и проговорила:
— Прошу тебя, не прогоняй меня. Я очень тебя прошу.
— Тут не о чем разговаривать, — отрезал я. — Я иду спать. Очень надеюсь, что проснусь в пустом доме и не буду вынужден устраивать неприятную сцену. Рад был познакомиться и счастливого пути.
И я поднялся к себе, а на следующее утро Лидии в моем доме уже не было. Цветы она и вправду поставила в банку из-под маринованного крыжовника, и я нашел их на столе в Круглой комнате, когда спустился, чтобы сварить кофе. Я посмотрел на них и подумал: теперь они засохнут и будут украшать эту комнату многие годы, совсем как я и хотел.
Дом был пуст. Наконец-то дом был пуст! Я чувствовал, как меня опьяняет осознание победы. Пустой дом казался мне праздником, Новым годом, днем рождения, каким-то особенным, безраздельно моим собственным торжеством, которое никогда не кончится, но которое все равно так хочется продлить, растянуть, как в детстве. Поэтому я оставил его и отправился к реке взглянуть на осень; я хотел позже вернуться в пустой дом и войти в него триумфатором. Я словно сам себе приготовил подарок!
Я вошел в осоку по пояс, как олень, пришедший на водопой, и позволил себе слиться с ее шелестом, меня даже немного знобило — это и был мой шелест в ответ. Я надкусил яблоко, но есть мне его не захотелось; я бросил огрызок в воду, и он неподвижно лег среди кувшинок и водорослей, накрытых прозрачной ладонью течения и превративших поверхность реки в рисунок, который ничего не значил, который искажал отражение птицы с печальным голосом, летевшей в какую-то совсем уж дикую синюю глушь.
Лес вокруг меня превратился в сплошной теплый поток. Вода сносила солнце вниз по нагретому шелковистому дну. По воздуху задумчиво плыли сверкающие длинные паутины, страшный терновник цеплялся за мои рукава шипами из чистого золота. Я пробирался домой нехоженым склоном, карабкался на вершину обрыва против течения корней и веток, руками разводя воздух, и земля осыпалась у меня под ногами. Наконец я увидел свой дом, будто бы в первый раз — и он оказался точно таким, каким я его замышлял.
Я поднялся до середины лестницы на второй этаж и вслушался в эхо, поселившееся в комнатах Профессора и Ланцелота, в Круглой комнате и комнате Лидии, и, конечно, в комнате Анни. Я думал о тех временах, когда перестану связывать их с именами, когда совсем привыкну к Анниной липе за домом и, может быть, перевешу на нее качели — ей-то ничего, не переломится. Вот-вот пойдут грибы и настанет пора делать настойку из черноплодки; за черноплодкой можно будет сходить в поселок, только перед тем немножко подправить мост. Нарвать ее побольше, уж больно она вкусная в этом году из-за долгих дождей, будто бы марципановая. Вот-вот похолодает и пропадут мухи и комары. И вдруг я вспомнил, как ворчал все летние вечера напролет в ответ на ворчание ночного комара, который, как раз когда я брался за чтение, любил засесть в тепло освещенную складку шторы над моим креслом, прямо у меня над плечом, и изводить меня своей мерзкой трескотней. Я вспомнил наше вечное злобное соседство и вдруг подумал: как же зимой я обойдусь без этого противного брюзжащего книгочея, ведь я в этом году даже не наворчался на него всласть. Мысль об этом злосчастном комаре как-то сбила меня с толку, и я ощутил такую усталость, что даже, придерживаясь за перила, присел на ступеньку. Я смотрел на первый этаж своего дома сверху вниз, как в колодец, и все предметы от этого казались какими-то необыкновенными. У меня ужасно разнылись ноги, и я решил, что это начинается ревматизм.
С тех пор с ногами у меня стало чуть-чуть хуже, но я не унываю, хоть мост не поправил и за черноплодкой не ходил, только слушал, как за лесом, в поселке, сторожевые собаки лают как будто вальсом. Что бы сказал Профессор на такой вальс, не знаю. Может быть, и станцевал бы, с Лидией на пару. Он говорил мне не раз:
— Если слышите музыку, коллега, не сомневайтесь — начинайте танцевать, а там видно будет. Откуда вам знать, может быть, это последняя музыка в вашей жизни.
Книга гостей куда-то задевалась, ошейник и поводок пса до сих пор висят за дверью на крючке, и я все