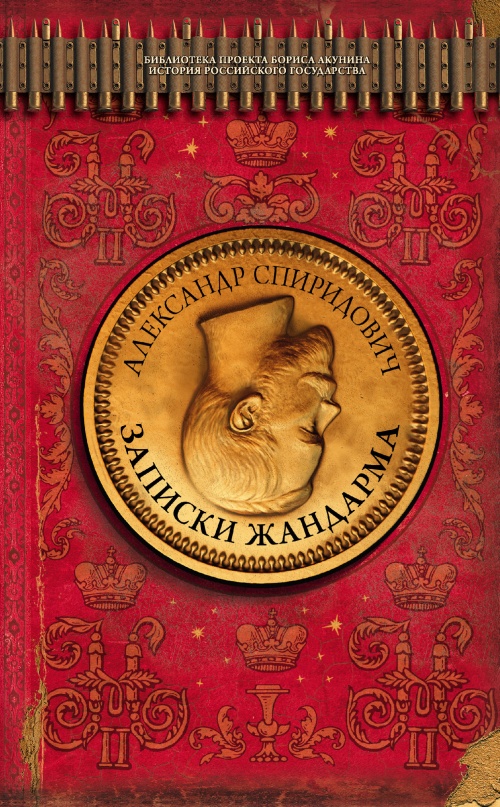Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
холодной войны – американские профессора Джон Гэддис, Марк Крамер и Мелвин Леффлер, немцы Вильфрид Лот и Герхард Веттиг, французы Жорж Суту и Морис Вайс, итальянцы Сильвио Понс и Виктор Заславский, норвежец, а в последствии англичанин Одд Арне Вестад, англичанин Дэвид Рейнольдс, затем чех Вилем Пречан, венгр Бекеш Чабо и другие.
Со многими из них мы постоянно встречались почти ежегодно. Мы полемизировали друг с другом, но сохраняли и наращивали конструктивное сотрудничество. До окончания холодной войны такое взаимодействие было практически невозможным – слишком велико было идеологическое противоборство сторон.
Но когда мы отошли от одностороннего и одноцветного подхода, когда холодная война предстала как сложный процесс, как система, на которую влияли объективные и субъективные факторы, когда возникло понимание, что мера ответственности за ее возникновение распространялась на обе стороны – тогда настало время для плодотворного и интенсивного сотрудничества и диалога, исключавшего столкновения и различия в позициях историков разных стран и направлений.
Именно в эти годы я участвовал в подготовке сценария и съемках многосерийного фильма о холодной войне с участием CNN и BBC. И моими коллегами-консультантами были все те же: американцы Джон Гэддис и Влад Зубок и англичан Фридман. Мы встречались в Лондоне почти каждый год в течение нескольких лет.
Романтический флер, сопровождавший нас во время съемок и обсуждений отнюдь не романтических тем и исторических сюжетов, странным образом выражался в совместных походах в знаменитый лондонский «Ковент-Гарден». А ларчик открывался очень просто. Главный продюсер нашего фильма Джереми Айзекс владел одновременно этим театром.
Вечная музыка Рихарда Вагнера и Вольфганга Моцарта как бы примиряла нас с жесткими реалиями холодной войны.
На этих съемках я, естественно, представлял Россию. Это была увлекательная работа. Мы искали собеседников в своих странах. Важно, что это были не только политики, дипломаты и журналисты. Мы старались найти и обычных людей. Я помню, как мы были довольны, когда нашли в Москве директора булочной фабрики. Это была очень, как бы сегодня сказали, креативная женщина; ее появление в фильме украсило тот аспект, который сейчас называется историей повседневной жизни.
У нас, разумеется, были сложности с общей концепцией фильма, хотя уже прошли те времена, когда обе стороны СССР и Запад во главе с США обвиняли друг друга в возникновении холодной войны. Для нас все началось после известной речи У. Черчилля в США, а для западных ученых – холодную войну начал Сталин, установив господство над Восточной и частью Центральной Европы.
В центре дискуссии оказались события в Восточной Европе; именно поэтому большую активность развивали историки Венгрии, Чехии, Болгарии и, конечно, Польши. В итоге работы над фильмом нам удалось преодолеть старые стереотипы и разногласия и подготовить 17 серий фильма, который был показан во многих странах, в том числе и в России.
Упомянутый Джереми Айзекс – владелец «Ковент-Гардена» – почти ежедневно переключал нас на совместное посещение великого лондонского театра.
Помимо фильма у меня в памяти остались несколько конференций, организованных Нобелевским институтом. В этой связи одно из самых ярких воспоминаний – крупная международная конференция в уютном доме в местечке Лисебю, в окрестностях Осло, посвященная истории советско-афганской войны.
В Норвегию приехали элитные эксперты и историки. Из США – бывший директор ЦРУ Ст. Тернер, бывший советник З. Бжезинского, в ведомстве которого решался вопрос о реакции США на ввод советских войск в Афганистан; группа американских историков и политологов. Со стороны России были посол А.Ф. Добрынин, бывший короткое время директором ФСБ Л.В. Шебаршин, генерал В.И. Варенников, который принимал активное участие в подготовке ввода советских войск в Афганистан и другие.
Со времени проведения этой конференции прошло уже почти 20 лет, но и сейчас я думаю, что это была одна из самых интересных встреч, где соединились документальная и устная истории. Отмечу лишь некоторые, наиболее впечатляющие моменты.
Сначала отмечу выступление генерала Варенникова, довольно откровенно рассказывавшего, что он и некоторые его коллеги по министерству обороны были против ввода войск в Афганистан. Их главный аргумент состоял в том, что ввод столь ограниченного контингента войск не решит проблему. При этом генерал сослался на английский опыт прошлых веков, которые ничего не смогли сделать в Афганистане. По словам генерала, тогдашнее высшее советское партийное руководство с мнением генералов не посчиталось.
Большой интерес вызвало выступление бывшего помощника З. Бжезинского. Во время дискуссии возник вопрос: знало ли американское и британское руководство о предстоящем вводе советских войск? Английский историк рассказал, что по его сведениям английские дипломаты сообщили советским представителям, что они, во-первых, не советуют вводить войска, опираясь на неудачный английский опыт, а во-вторых, (это мне показалось особенно важным), они предупредили советских дипломатов, что следует ожидать крайне жесткую реакцию Запада.
А затем на те же вопросы представитель США откровенно заявил, что американские представители «успокаивали» советских дипломатов, что ввод войск не вызовет больших потрясений. Когда же один из российских ученых прямо спросил, что, судя по последующим событиям и крайне жесткой реакции США на ввод войск, американцы могли бы предупредить об этом советских дипломатов, бывший советник Бжезинского цинично заявил, что американцы блефовали насчет «спокойной» реакции США, поскольку им было выгодно, чтобы СССР вошел в Афганистан и надолго бы там завяз.
В целом, конференция в Лисебю явилась важным примером в исследовании сложной и драматической истории советско-афганской войны.
Советские национальные республики и независимые государства на постсоветском пространстве
Работая ученым секретарем Института всеобщей истории, а затем и Отделения истории Академии наук, я много раз посещал советские национальные республики. Там проводились научные конференции или организовывались мероприятия. Республики отличались друг от друга, но их, по моему тогдашнему представлению, объединяли связь и «почтение» к «старшему брату», причем эти связи в разных республиках отличались друг от друга.
Говоря в общем плане, следует отметить, что сотрудничество историков в советское время обуславливалось и общими теоретическими и идеологическими практиками. Но их объединяли дружественные связи и частые личные контакты.
В то же время уже и в период перестройки начали проявляться национальные различия и особенности. Но, как мне помнится, я ни разу не слышал со стороны наших коллег каких-либо претензий. Они признавали некое «верховенство» историков из Москвы.
Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве у историков республик преобладала национальная проблематика. В Узбекистане, Таджикистане, Казахстане были институты или факультеты по проблемам востоковедения. На Украине был Институт мировой экономики и политики (некий аналог Институту всеобщей истории и ИМЭМО в Москве). В Армении одним из акцентов было изучение армянской диаспоры в других странах.
Привязанность ученых из национальных республик к Москве усиливалась тем, что на их поездки за границу должны были быть получены
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190