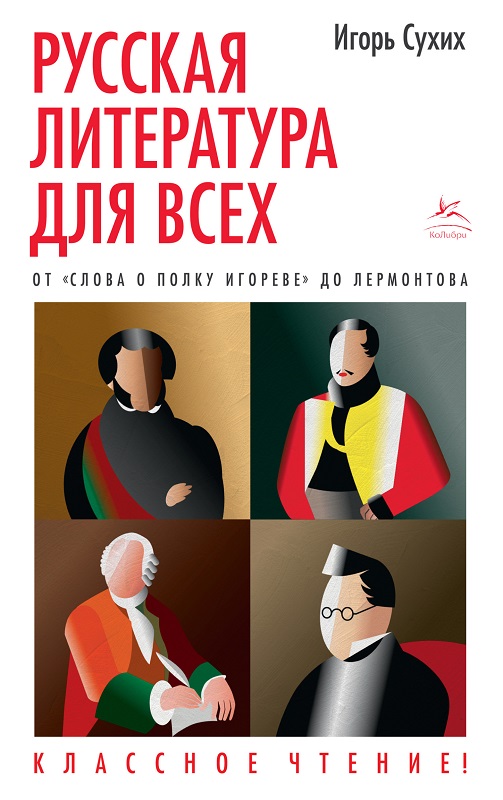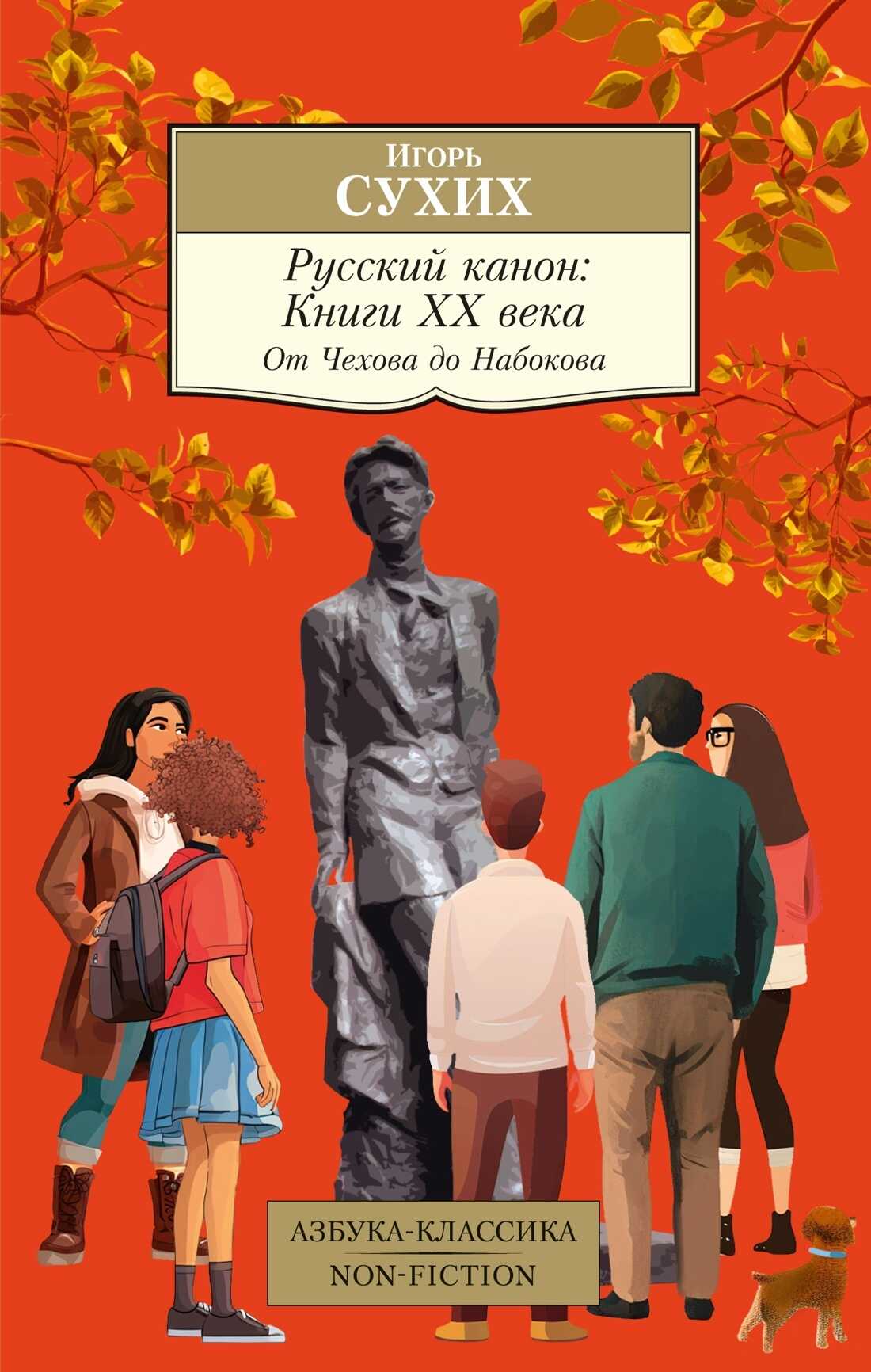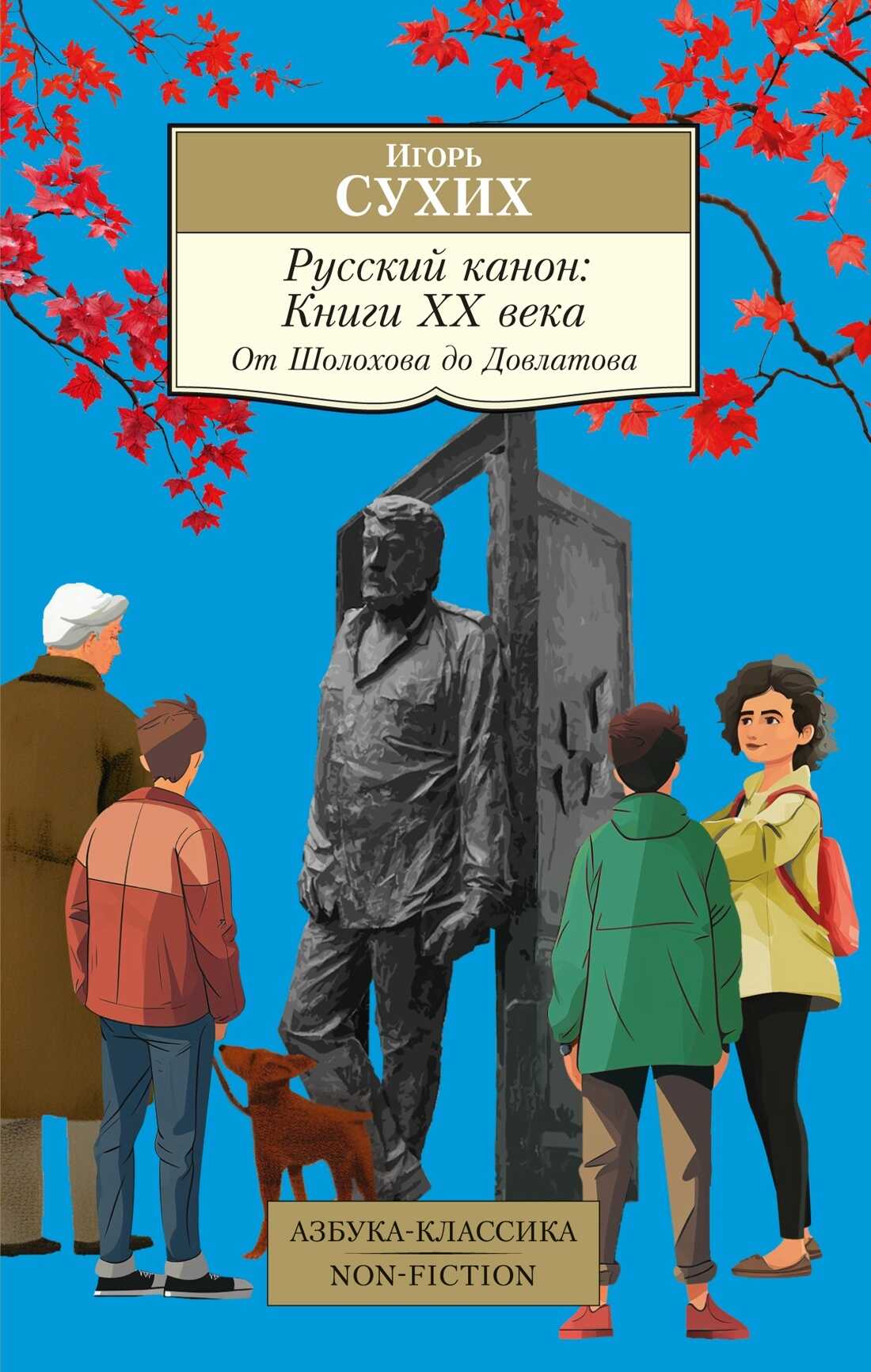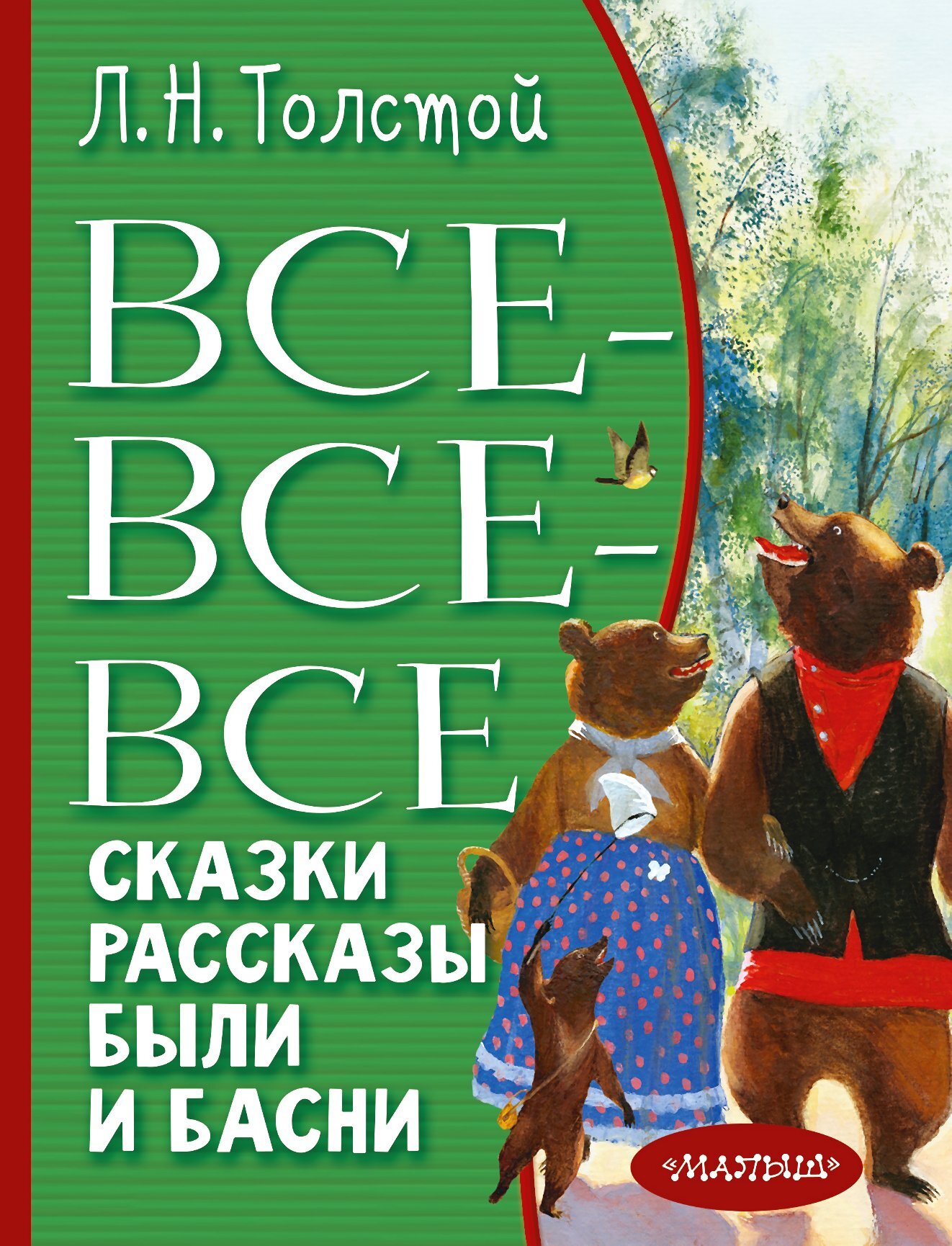id="id63">
Персонажи: второстепенные и главные
«Вообще к персонажам первого плана и персонажам второстепенным, эпизодическим издавна применялись разные методы. В изображении второстепенных лиц писатель обычно традиционнее; он отстает от самого себя», – заметила литературовед Л. Я. Гинзбург, обобщившая опыт предшествующей литературы («О литературном герое»).
Прозаик А. Г. Битов словно продолжает эти размышления, утверждая, что главных героев автор рождает изнутри и потому они для него «роднее», второстепенных же персонажей тот же автор лепит извне, и потому они от него дальше, «двоюродней». Соответственно меняется и позиция читателя: «Что такое литературный герой в единственном числе – Онегин, Печорин, Раскольников, Мышкин?.. Чем он отличен от литературных героев в числе множественном – типажей, характеров, персонажей? В предельном обобщении – родом нашего узнавания. Персонажей мы познаем снаружи, героя – изнутри; в персонаже мы узнаем других, в герое – себя» («Статьи из романа»).
Но кто в «Вишневом саде» дан снаружи, а кто изнутри? Снаружи, в одном и том же ракурсе, изображен, пожалуй, лишь лакей нового времени Яша. В других же случаях точка зрения на персонажа постоянно меняется. Об одних говорится больше, о других – меньше, но разница эта скорее количественная, а не качественная. Каждое действующее лицо «Вишневого сада» имеет в сюжете свою звездную минуту, когда из второстепенного оно становится главным, когда персонаж превращается в героя.
Гоголевского Бобчинского или Кудряша Островского трудно представить главными героями пьесы: для этого в «Ревизоре» и «Грозе» мало драматического материала. Они созданы и воспринимаются извне, граница между этими «персонажами» и Хлестаковым или Катериной непреодолима.
Напротив, легко представить себе водевиль (но чеховский, далеко не беззаботно-смешной) о Епиходове, сентиментальную драму о Шарлотте, вариацию на тему «все в прошлом», героем которой будет Фирс, «историю любви» (тоже по-чеховски парадоксальную) Вари, идейную пьесу о «новом человеке» Трофимове и т. п. Для таких «пьес в пьесе» материала вполне достаточно.
Любой персонаж «Вишневого сада» может стать героем, в каждом – при желании – можно узнать себя. Происходит это потому, что все они так или иначе участвуют в основном конфликте драмы. Но смысл этого конфликта иной, более глубокий, чем это казалось современникам.
Конфликт: человек и время
Своеобразие чеховского конфликта наиболее глубоко и точно определил литературовед А. П. Скафтымов: «Драматически конфликтные положения у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна» («К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова»). Развивая эту идею, обычно говорят о внешнем и внутреннем действии, двух сюжетных линиях, внешнем и внутреннем сюжете чеховских рассказов и пьес.
Внешний сюжет (фабула) «Вишневого сада» достаточно традиционен: приезд Раневской из Парижа и первое сообщение Лопахина о назначенных торгах (первое действие) – поиски выхода из создавшегося положения, разговоры и споры о судьбе имения (второе действие) – продажа имения в роковой день двадцать второго августа (третье действие) – отъезд, расставание с домом и садом (четвертое действие).
Внутренний же – и главный – сюжет просвечивает сквозь фабулу, мерцает, пульсирует, лишь иногда вырываясь на поверхность. Его образуют многочисленные лейтмотивы, сопоставления, переклички, образующие причудливый, но в высшей степени закономерный узор. Принцип повтора, регулярного напоминания и возвращения почти так же важен в чеховской пьесе, как в лирическом произведении.
Едва ли не каждый персонаж имеет свою постоянную тему. Без конца жалуется на несчастья Епиходов, лихорадочно ищет деньги Симеонов-Пищик, трижды упоминает телеграммы из Парижа Раневская, несколько раз обсуждаются отношения Вари и Лопахина, вспоминают детство Гаев, Раневская, Шарлотта, Лопахин. Но больше всего герои размышляют об уходящей, ускользающей жизни.
«Главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, – беспощадно уходящее время», – написала еще в тридцатые годы XX века эмигрантский философ и критик М. А. Каллаш (ее книга «Сердце смятенное» была издана под мужским псевдонимом М. Курдюмов). Это определение очень нравилось И. А. Бунину, вообще-то чеховских пьес не любившему.
Судьба человека в потоке времени – так можно определить внутренний сюжет «Вишневого сада». «Не только в каждом действии, но почти в каждой сцене как будто слышится бой часов…» (М. Каллаш).
Движение «большого» времени тесно связано с развитием сюжета и окрашивает каждое действие пьесы: утренняя суета приезда, надежды на лучшее на фоне цветущего майского сада – длинные, утомительные вечерние разговоры в разгар лета – надрывное ночное веселье, пир во время чумы в давно определенный день торгов, двадцать второго августа, – пронзительное чувство конца, расставания с домом, с прошлым, с надеждами в осенний октябрьский день.
Но в пьесе множество и более конкретных временных указаний и ориентиров, многочисленных звонков-сигналов, знаков текущего времени. Вот хронометраж только первого действия: на два часа опаздывает поезд; пять лет назад уехала из имения Раневская; о себе пятнадцатилетнем вспоминает Лопахин, собираясь в пятом часу ехать в Харьков и вернуться через три недели; он же мечтает о дачнике, который через двадцать лет «размножится до необычайности»; а Фирс вспоминает о далеком прошлом, «лет сорок-пятьдесят назад». И снова Аня вспомнит об отце, который умер шесть лет назад, и маленьком брате, утонувшем через несколько месяцев. А Гаев объявит о себе как о человеке восьмидесятых годов и предложит отметить столетие «многоуважаемого шкапа». И сразу же будет названа роковая дата торгов – двадцать второе августа.
Время разных персонажей имеет разную природу, разные точки отсчета: оно измеряется минутами, месяцами, годами.
Время Фирса почти баснословно, оно все – в прошлом и, кажется, не имеет твердых очертаний: «живу давно». Лопахин мыслит сегодняшней точностью часов и минут. Время Трофимова – все в будущем, и оно столь же широко и неопределенно, как и прошлое Фирса.
Оказываясь победителями или побежденными во внешнем сюжете, герои «Вишневого сада» резко сближаются между собой в сюжете внутреннем. В самые, казалось бы, неподходящие моменты, посреди бытовых разговоров они наталкиваются на непостижимый феномен жизни, человеческого бытия. В их словах нет ничего мудреного, никакой особой «философии времени», если подходить к ним с требованиями объективной драматической логики. Но в них есть глубокая правда лирического состояния, подобная тоже простым пушкинским строчкам:
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем.
«Да, время идет», – вздохнет в начале первого действия Лопахин, на что Гаев откликнется высокомерно-беспомощным: «Кого?» Но репликой раньше он сам, в сущности, говорил о том же: «Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а