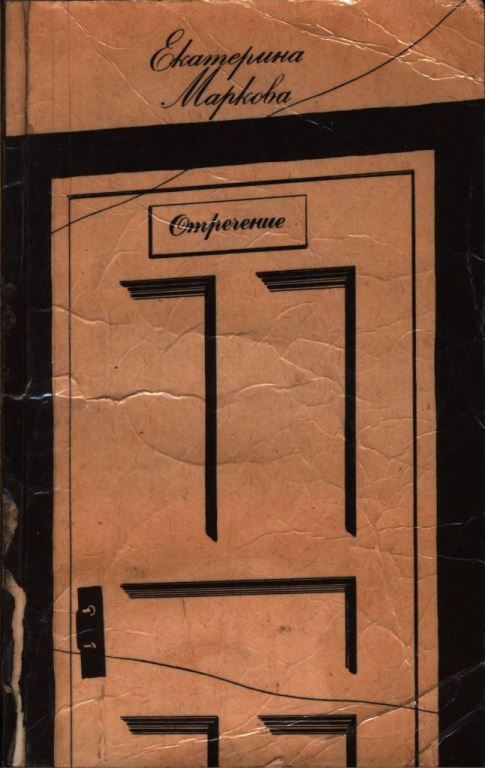по исполнителям, и по композиторам. Правда, до сих пор те, кто пользуются еще бумажным каталогом, нарываются на такие карточки: «Макс фон Пиписькин. „О какашка, приди ко мне на заре“, ор. 267, романс для низкого голоса в сопровождении арфы. Исполняют такие-то (тоже соответственные)».
Была в детстве также «долларовая эпидемия» – вся дачная Салтыковка разделилась на банкиров, грабителей, ростовщиков и еще кого-то, выпускались виртуозно нарисованные салтыковские доллары, которые подделать было нельзя (но подделывали), и совершались всякие операции и сделки. Баб-Василь тоже участвовала: по сценарию являлась и прогоняла налетчиков с дачного балкона, изображая полицию.
В домашних спектаклях Петька тоже был главный демиург, писал сценарий, сам записывал музыку на катушечный магнитофон, чертил декорации (а я расписывала, лежа на полу, огромные склеенные листки какой-то бумаги для покрывания стола, ватмана не было. Рисовала гуашью – то дуб со змеей в дупле, то клетки тигров-людоедов – не помню уже, что.
Иногда я, по вредности, бастовала, и Петька кричал: «Я же Герберт фон Караян, почему она меня не слушается?», а я показывала то дулю, то язык.
Потом всегда меняла вредность на энтузиазм, и спектакли проходили замечательно.
Также в детстве Петька стал снимать кино – на восьмимиллиметровую пленку. Называлось, помню: «Бриллианты тетушки Доббисон». Баб-Василь играла умирающую леди, которая завещала мне, слуге Чарли, все свое состояние. Фильм был, понятно, немой, и, снимаясь, бабушка городила всякую смешную чушь, вроде: «Не забудь также перечницу, ночной горшок» и пр. А Петя с друзьями играли незадачливых наследников и еще более тупых бандитов, которых всех Чарли, то есть я, оставлял в дураках.
Петька был и автор сценария, и оператор, и режиссер, и актер.
Любовь к кино потом «стрельнула» в юношестве. Петька, уже студент консерватории, забил на учебу и кинулся снимать «параллельное кино», и делал это самозабвенно, вплоть до выгона из консерватории. Но зато преуспел, открыл какое-то там направление в кино и получал призы на «параллельных» фестивалях, даже в Америке сорвал первую награду. Я снялась в двух или трех его фильмах. Моя роль называлась: «Девочка-яйцо»…
В консерватории брат был избирательным прогульщиком, потому что ему все нравилось делать самому. Вместо лекций набирал груду нот и корпел сам, играя ночами, постоянно покупая пластинки, не пропуская ни одного концерта. Знакомые рассказывали: «Типичная картина в магазине „Мелодия“ на Калининском: в отделе „Классика“ стоит Петя, трет ботинок об штанину и на свет проверяет уже девятую пластинку – чтоб царапина не попалась».
Он собрал огромную пластиночную коллекцию, которую нам сейчас не на чем проигрывать – «Вега» сломалась. И просто компьютер одолел.
Играл с листа, в четыре руки – с красивыми и очень неравнодушными к нему девушками, с Бибой Зубковым, и просто сам – за все руки.
Несколько лет назад мы в Сортавале собрались на даче у Марины Раку и вознамерились спеть и сыграть «Волшебную флейту» по карманной партитуре. Я знала некоторые номера наизусть, но увертюру по партитуре, да еще мелкой, сыграть не взялась, это уж слишком даже для пианистки.
Петька сыграл – и неплохо.
Профессор консерватории Инна Алексеевна Барсова, сидящая, свесив ножки, на кровати, тихо сказала:
– Петя, а вы хорошо играете с листа. Кто у вас был по чтению партитур?
– Вы, Инна Алексеевна, – покраснев, признался Петька.
Лет в семнадцать он вообразил, что у него тенор (потом оказалось, что хоть и небольшой, но – бас). Было лето, Петя играл на рояле и вопил арию Калафа: «Винчеро!» истошным голосом, так что какая-то дама из окна, выходящего на двор, робко сказала: «А нельзя ль потише, уже два часа ночи!», на что другой, тоже совершенно неизвестный, голос отвечал во тьме двора: «Молчи, дура, у него экзамены!»
Еще он страшно щедр. У нас умерла тетушка и оставила нам обоим квартиру. Петька отказался вчистую в мою пользу. На вопрос юристки в кабинете: «Осознаете ли вы, Петр Глебович, что ваш отказ не имеет обратной силы, а также совершенно безвозмезден?» Петька сделал страшные глаза и сказал: «Черт, а я ждал, что сестра мне бутылку шампанского поставит!»
Про профессиональные его доблести, как критика и как композитора, писать не буду – многие его читают, слушают, хвалят, ругаются, спорят…
Горжусь только, что уже несколько лет с ним работаю вместе, как с композитором: мои слова – его музыка. Вот и только что оперу написали вместе. Для театра в Перми. Да еще и Золотую Маску за нее получили.
Брат добр, отзывчив, умеет делать чайный гриб, обожает нас всех, семейных, друзей, детей, племяшку, Лену, свою Салтыковочку.
Проснувшись, говорит жене: «Малюточка, давай радоваться!»
Сейчас я перевела несколько стихотворений Эдварда Лира для его оперы в Перми. Так вот Петька – чистый Лир!
Там есть такие стихи:
Полон он непонятной печали,
И в слезах его часто встречали,
Но, поплакав чуток,
Он ирисок мешок
Покупает в ларьке на причале.
Это про него.
Валентинов день
А я не знаю – кому послать в этот день «валентинку».
Бывшим мужьям – неприлично, они уже заново обженились, счастливо.
Поклонникам – да и они все заняты уже, и у них семеро по лавкам.
Недавно при людях на концерте обняла в растроганности одного и говорю: «Ты такой чудесный», а он мне так боком рта в ответ: «Раньше надо было»…
Есть еще некоторые, по которым вздыхаю, но лучше им не знать про это.
Вообще у меня, параллельно с романами, всегда существовал какой-то «вымышленный возлюбленный», не конгруэнтный тому, что был.
Идешь, бывало, после счастливого свидания, чувствуешь: глаза горят, как у Анны, и кому-то все твердишь в воздух: «Люблю тебя!» А потом подумаешь: а кому это я? – Бог весть. Ему? – Нет. Непонятно – кому.
Это как у детей бывает «воображаемый друг».
И снятся мне все какие-то «левые» персонажи, которых никогда в жизни не встречала…
Причем с юности у меня какие-то странные мечты: чтоб был обязательно хромой, косой или чем-то интересно и неопасно больной (со шрамом, или легкий шизоид, или слабогрудый).
Мне и в персонажах литературных нравятся такие полу-калеки: Ральф Тачит из «Женского портрета» Джеймса, князь Лев Николаевич Мышкин и Болконский, когда уже ранили. Квазимодо тоже ничего.
В «Аленьком цветочке» меня всегда смущает конец. Вот влюбилась девушка искренне в Чудо-юдо мохнатое, романтичное, доброе и ей одной преданное. А потом – хлоп – и он в какого-то гламурного Баскова превратился. Зачем ей красавец после Чуды-юды? Совершенно не сексуально и психологически не