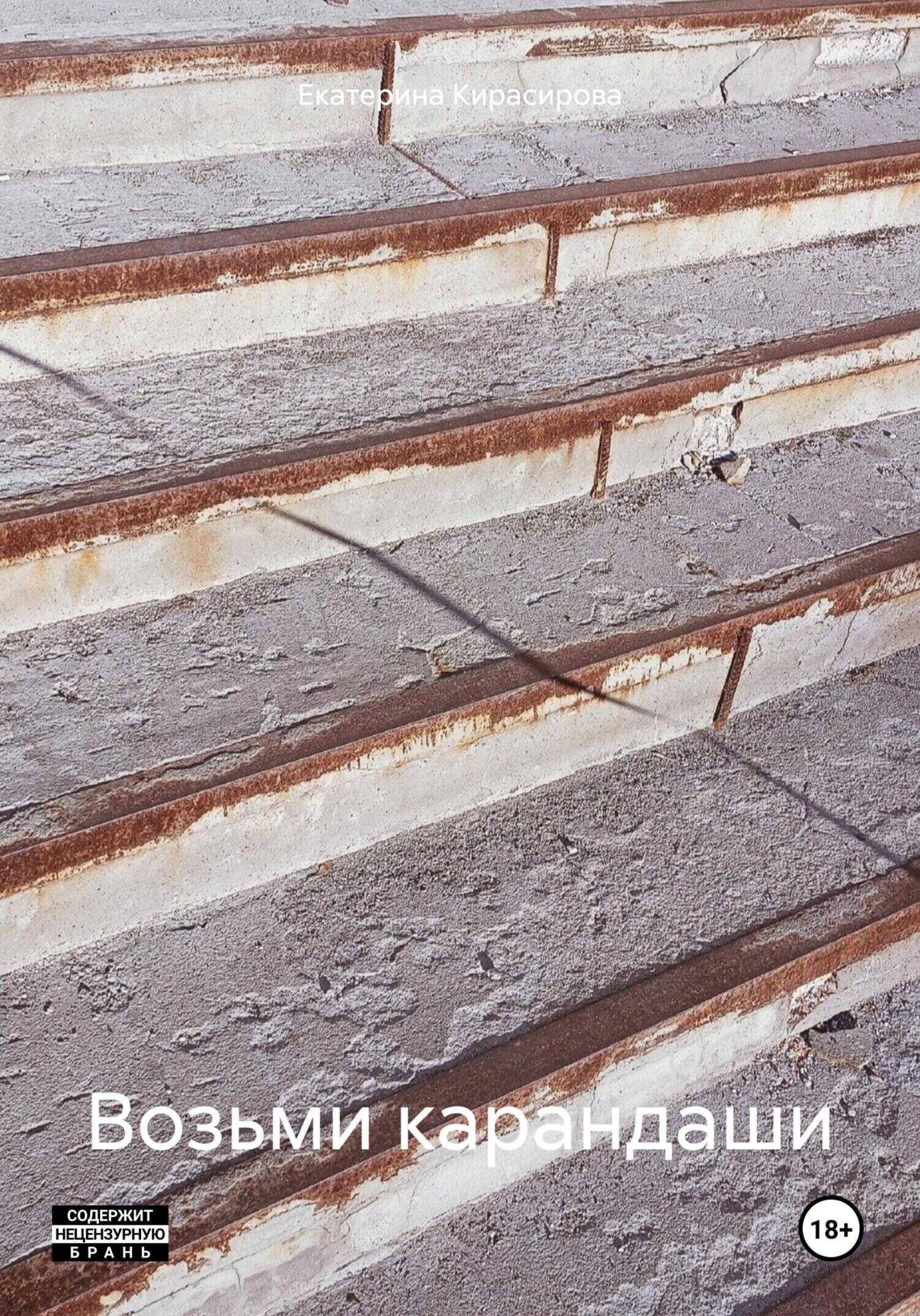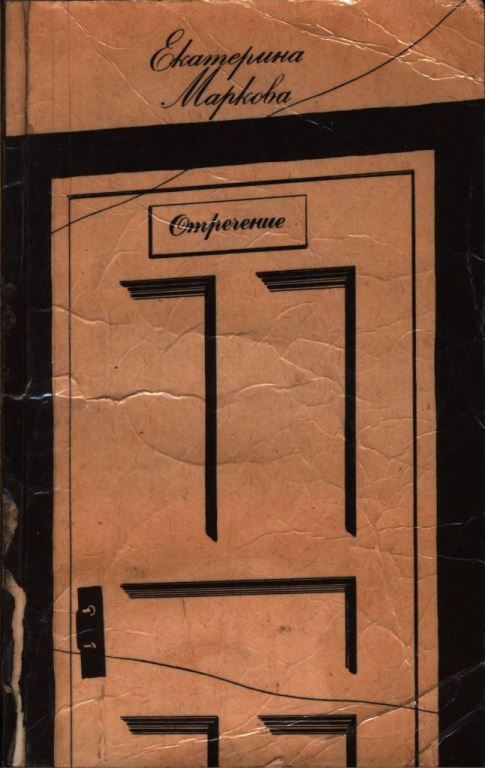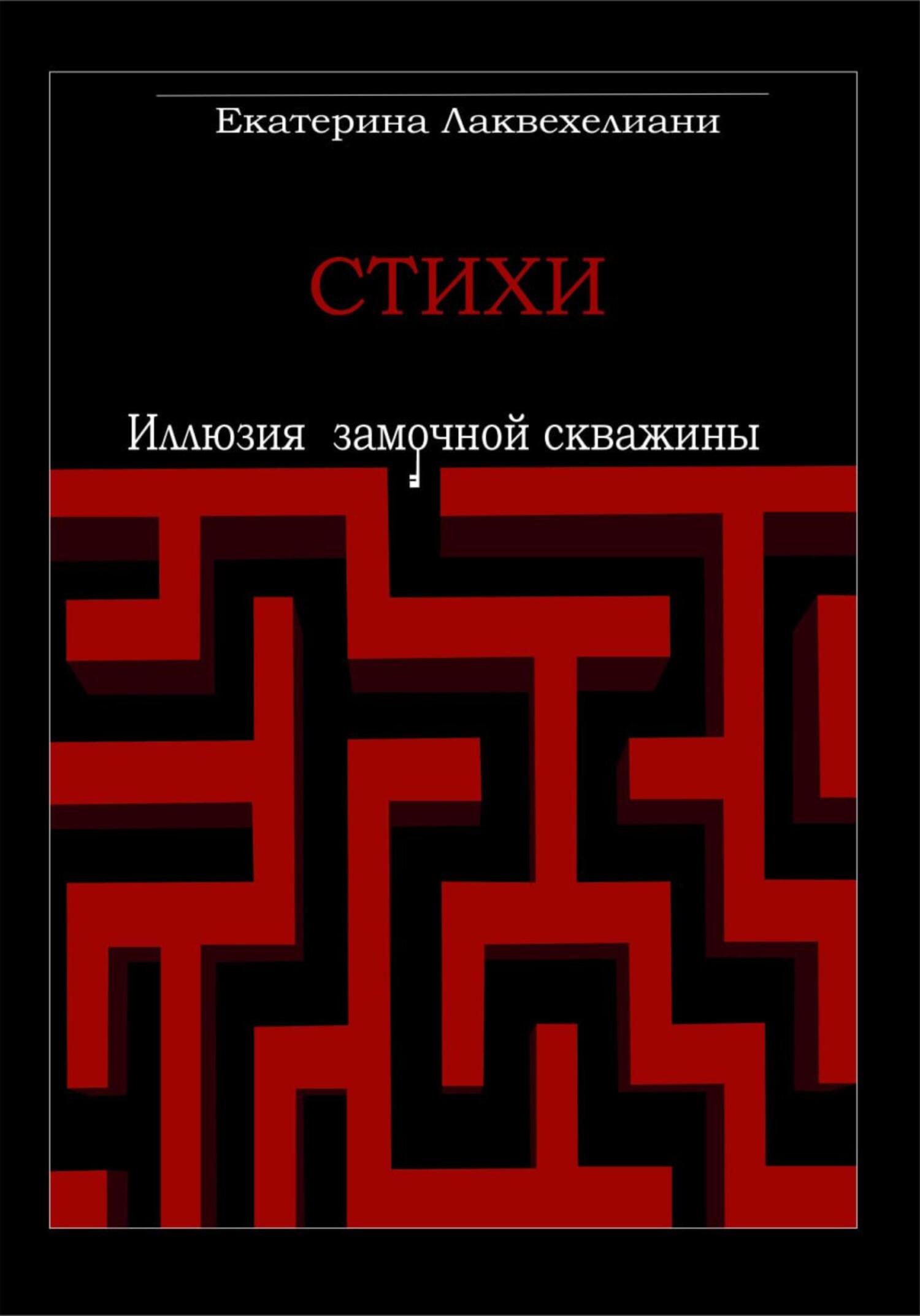оправдано.
Вот.
И я мечтаю, чтоб занимался герой моего романа чем-то таким, очень нужным и серьезным, но в чем я ни черта не смыслю. Вот у меня есть подруга, которая говорит, что книги своего отца без слез не может читать, даже оглавление. Например, там что-то про «червячную фрезу»…
Вот такого бы мне.
А ко мне и к моей деятельности чтоб относился с неразборчивым восторгом и деятельным обожанием.
А где такого взять?
Словом, поздравляю с Днем влюбленных всех, кто влюблен!
Пускай уж, ладно, – и бывших мужей, и поклонников, переставших поклоняться, и тех, по кому сохну тайно, и того, с кем еще, верю, встречусь наяву, и кому наконец скажу все по правде.
Всем любви, вот!
Про Святослава Рихтера
20 марта каждый год думаю о Рихтере.
Поздравляю всех, кто его знал, слушал, любил и восхищался.
Я помню: первое, что я когда-либо написала для печати, была маленькая заметка в стенгазету Мерзляковского училища – про него.
Мне было девятнадцать, и я собиралась замуж за прелестного юношу, начинающего писателя, и очень стеснялась ему показывать свою писанину. Но он оказался снисходителен, одобрил выражения «насыщенный шум аплодисментов» и «крупная грация», которые я употребила, описывая то, как Святослав Теофилович выходит на сцену в БЗК.
Потом мы вместе у него в комнате приклеивали казеиновым клеем фотографии из семейного архива, перепечатывали набело, и, кажется, в ту ночь я впервые не приехала домой ночевать…
У юноши тоже была немецкая фамилия. И грация была… И просто…
А до этого Рихтер появлялся, как снег на голову, у нас в училище. Никаких не было анонсов и прочей ерунды. Он спонтанно вдруг решал, как он часто делал: а поиграю-ка я для студентов-пианистов!
И. А. Антонова не раз рассказывала, как он так же неожиданно решил впервые и в музее изобразительных искусств поиграть, и в каком она была ужасе от мысли: как собрать зал, как все организовать?
Но оказывалось все несложно: какие-то хорошие люди накануне ночью по телефону сообщали всем эти непроверенные слухи. И все случалось!
И у нас в училище к его всамделишному приезду все коридоры и лестницы были уже заполнены, причем не только студентами, но и так называемыми «постоянными СЫРАМИ» Рихтера, которые, каким-то летучим образом, узнавали про все его концерты – и приходили.
Позже я сама стала такой «сырихой» – ездила в самые разные места: в Тарусу, в хоровую школу, забыла, на какой отдаленной станции метро, в Звенигород (знакомые подхватывали на машине). Один раз оказалась сидящей просто напротив, в метре от него! – потому что импровизированный зал был забит, и впереди первого ряда кто-то еще сидел просто на полу.
Помню, он играл сонату К. М. Вебера до-мажор со знаменитым «Перпетуум-мобиле» в финале. Это было так быстро, что выпрыгивало сердце.
Нам, пианистам, когда мы учились, советовали: «Играя виртуозную музыку, мысленно делите ее на более крупные ритмические части, не на 4, а на 2 – и т. д.». Тогда и играть легче, и суеты не возникает.
А Рихтер играл не на 4, не на 8, а словно как будто «на 64», – и то, что, может быть, и не было так жутко быстро на самом деле, благодаря артикуляции каждой шестнадцатой и общему напору, казалось просто невозможным, непереносимым сперва и заставляющим пульс биться в каком-то сумасшедшем ритме.
Я совершенно не адепт игры «громко и быстро». И мне не очень нравятся, например, его ранние записи, экстра-темпераментные и скоростные, но в зрелом возрасте (а я его именно в таком и застала) он уже оперировал темпами – не как темпами, – а как временем, которое может то невыносимо сжиматься (как в этой части сонаты Вебера), так и разряжаться немыслимо, до каких-то уже вакуумных пределов (как в первой части его любимой сонаты Шуберта G-dur). Это был не виртуозный или меланхолический эффект, а работа именно со временем…
Говорят, когда учитель Рихтера, Г. Г. Нейгауз, попенял ему на то, что он слишком медленно играет первую часть соль-мажорной сонаты, Рихтер шел некоторое время рядом с учителем по бульвару, задумавшись, а потом сказал: «Я понял, надо играть еще немного медленней».
…Чтоб эти наши привычные ожидания тоники после доминанты или доминанты после субдоминанты отвалились бы, а вместо этого возникло бы какое-то опережающее само время, в глобальном смысле, нерационально-замедленное пространство, – с совершенно другими связями между звучащими элементами.
Он был как физик в музыке иногда.
Он словно бы вкладывал то, над чем работали экстрасовременные композиторы, уже отказавшиеся от лада и гармонических тяготений, – в традиционную музыку с устойчивыми ладо-тональными связями. Его Шуберт был Шубертом, но уже помноженным на Вебера.
(Да простят меня знатоки.)
Игра узнаваемого – в неузнаваемом временном пространстве.
Пожалуй, это главное, что меня так завораживало в его игре.
Время.
То же самое со звуком.
Многие мои сокурсники кривили губы и презирали в некоторых случаях звук Рихтера. Он был такой «прямой и туповатый» иногда. А рояли уже давно выпускались роскошные, выплескивающие через злато-лакированный край роскошь и бархат звучания, – и блаблабла.
А Рихтер мог играть какой-нибудь третий этюд Шопена так, что от благородства и бархатности просто под ложечкой млело и замирало, а потом концерт Гайдна – таким прямым, нарочитым и «лысым» каким-то звуком, – и, боже мой, сколько было в этом смысла, и как отворачивались в конфузе поклонники Гилельса, у которого все было стилистически-удобоваримо. (Не надо меня записывать сразу в тупые «антигилельсовки», – я обожаю Гилельсовские сонаты Скарлатти, двадцать седьмой концерт Моцарта и многое другое, что довелось послушать.) Но то, что делал на современном рояле с Гайдном Рихтер, было в сто раз круче, чем некоторые делают на молоточковых фортепиано и на прочей ветоши.
В нашей антирелигиозной семье Рихтер был чем-то вроде экзистенциального божества. Мы ходили просто на все его концерты, до которых могли дотянуться, в силу территории и возраста. Бабушка, баб-Василь, была знакома с ним лично, и у нас в архиве хранятся несколько совместных фотографий (сканер не работает!), а также счастливых открыток, написанных С. Т. Р., как он подписывался. Но бабушка ездила только на заранее согласованные, с приглашением жены Рихтера, Нины Львовны, концерты, на вызванном такси и после того, как ее около газовой плиты завьет ее личная парикмахерша, Анна Яковлевна. (Вот же, вспомнила!)
Няня моя, деревенская и православная, относилась к этому культу как к «блажи». Бывало, отвечала на телефонные вопросы: «Да опять пошли на своего Рихмана».
Мама и папа могли поехать и в