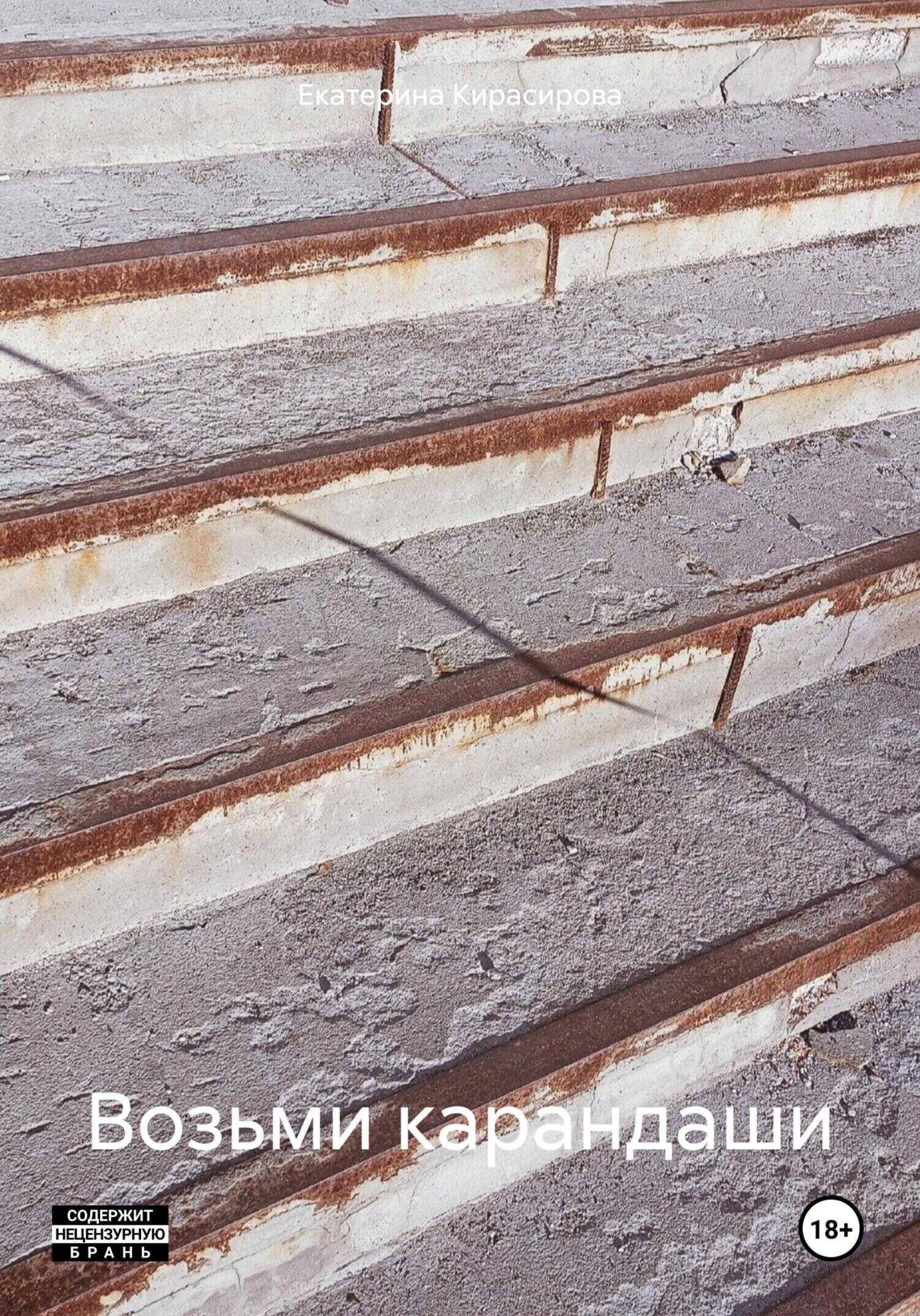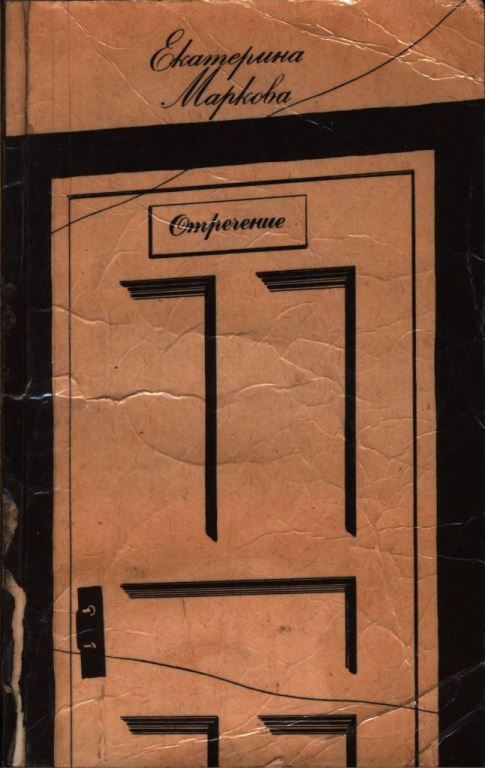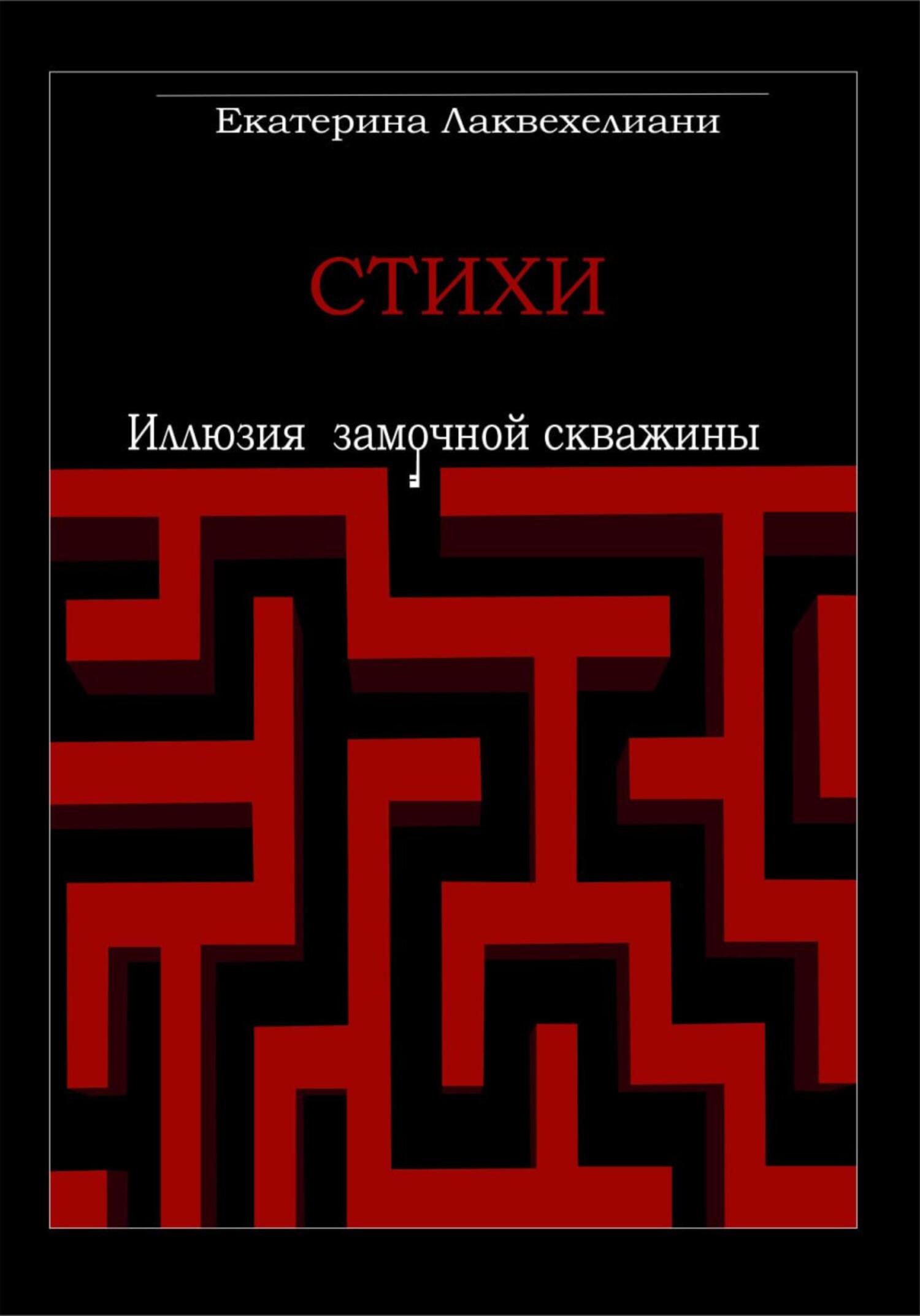в которые был впряжен единственный конь охотхозяйства, Копчик (кажется, он мерин был, но я тогда еще таких различий не понимала).
До деревни и расположенного на ее окраине охотхозяйства было два километра по снежной степи.
(Помню, мы тогда оставляли в Москве мою баб-Васильку на гостящих у нас бельгийских друзей-филологов, которые потрясенно повторяли: «Два киломиетра – пиешком – ужаас!»)
В наст были воткнуты еловые ветки, чтоб не сбиваться с дороги в пургу, которая, в то время суток, когда приходил поезд, почти всегда бушевала.
Взрослые шли за нагружеными санями пешком, а дети ехали на санях; я отлично помню, как Копчик вздыхал, пфрукал, пукал, недовольно мотал спутанной упряжью головой и иногда, подняв хвост, выкатывал «яблочки» под полозья.
По прибытию нас, детей, сразу кормили тепленьким и укладывали спать, потому я не помню, как трудно и хлопотно сооружался взрослыми наш быт в ОХОХО: топка заиндевевшего и звенящего стужей помещения, печь, утренний завтрак…
К моменту нашего детского пробуждения все было уже готово: каша с сублиматом и даже конфеты! Родители, устроив все трудное и скучное, уже давно разговаривали о внебытовом, абстрактном и гуманитарно-техническом: половина взрослых были лирики, половина – физики, все спорили о своем, интересном, на нас, детей, не делали никакой скидки.
Хочешь – постигай, хочешь – спи себе или гуляй по морозцу.
Если честно, мне такой способ воспитания детей очень нравится.
Через четыре дня семейство Немировских должно было воссоединиться полностью, – тетя Миррочка, красивейшая и прелестнейшая женщина, сотрудник Третьяковки, которая почему-то не смогла поехать вместе в нами, приезжала потом, тем же, что и мы, вечерним поездом, только лошади с телегой на этот раз уже не давали.
Взрослые разделились: кто-то остался с детьми, а кто-то пошел «два киеломиетра пиешком» (на самом деле – три, как я сейчас по гугл-карте вижу) по страшной, воющей волками степи – на станцию – встречать тетю Миррочку…
Несколько пап-мужчин, немножко приняв на грудь для храбрости и тепла, ушли встречать, закутанные, в темную пургу.
Поезд, лязгающий черной и вьюжной мглой, пришел, вырос во тьме, загадочно погудел, повонял и ушел снова в ночной вихрь, а никакой тети Миррочки не обнаружилось ни на платформе, ни рядом.
Наши папы покричали, поаукались и, не дождавшись отклика, пошли, ориентируясь по хвойным вешкам, обратно, в ОХОХО.
По приходу им было налито еще, хотя все волновались, обсуждали: что могло случиться в Москве и почему тетя Миррочка не приехала. Мобильников и вообще никакой связи не было, поэтому всякие были догадки… но печка гудела так уютно, дети были такие милые, утомившиеся и квелые, застолье шумело, лились разговоры, воспоминания и даже стихи: муж неприехавшей тети Миррочки, преодолевая волнение и тревогу, сказал тост:
Поминая Мирру матом,
Ели кашу с сублиматом —
и только сказал, дверь с мерзлой и гулкой террасы отворилась, как в Татьянином сне, вывернутом наизнанку, и прекрасная тетя Мирра вошла.
Она жгучими темно-синими очами с заиндевевшими ресницами оглядела наш веселый пир, полупьяный, теплый, натопленный…
– Госсподи, – сказала она тихо и тонко, – а меня никто не встретил… я думала: что-то случилось, детки заболели, или что… – Слезы, большие и сияющие, как крупные алмазы, но всамделишные, горькие, брызнули у нее из глаз, и она, зарыдав, убежала на террасу во тьму, к кабану…
Оказывается, она ехала в последнем вагоне, который не уместился на платформу, ее выкинули с вещами просто в сугроб, и, выбираясь из него, она не слышала ни паровозного гудка, ни окриков, просто вытряхивала из-за шиворота и из обшлагов снег, собирала свои пожитки и безответно кричала на ночном ветру.
А потом одна, в ночи, шла жутким и воющим полем и опасным перелеском по тропе, которую моментально замело вслед, и убивалась от тревоги и страха…
Потом все наладилось, тетю Миррочку утешили, накормили и напоили, и настал Новый год.
Тетя Лиля Ратнер, скульпторша, придумала изваять на деревенской поляне четырехметрового Медведя – такое тотемное, выразительное божество округи. Она профессионально спланировала не только саму снежную скульптуру, но и расчертила на бумажке в масштабе центростремительные аллеи, наподобие французских парков, по которым мы все катили огромные комья снега в центр, а другую часть целины – не дай бог было трогать, – чтоб красиво вышло…
Мужчины с помощью рычагов и досок водружали тяжеленные, хрустящие и рассыпающиеся комья один на другой. Мы, дети, гикали, орали от восторга и подтыкали будущего гиганта доступными нам по росту снежными жировыми складками-комьями, – и вот он вырос, колоссальный Михалываныч, языческий, гордый и смешной, головой почти вровень с самыми большими домами в округе, с неповторимой физиономией, которую ему придала тетя Лиля, в тулупчике и «красном кушаке» стоя на большой лестнице.
На следующий день вечером про идола прознала деревня, и к нему началось паломничество. Мы, мелкие, выбегали на крыльцо, а мимо нас шел народ, веселые и разговорчивые мужики и тетки, у которых в охапках были – у кого грудной ребенок, а у кого четыре кота, свисая хвостами. Мы их до этих пор никого не видели, а сейчас спрашивали:
– Куда вы?
А они весело:
– Мядведя пошли смотреть!
Кажется, там организовались какие-то стихийные празднества и выпивания, но нас, детей, уже педагогически положили спать, и мы все это видели только во сне.
Потом наступила оттепель, и Медведь Иваныч весь осел, сник, обрюзг и потек, превратился в громадную снулую глыбу звенящего льда.
Лыжные прогулки в лес тоже прекратились, потому что при попытке сделать два шага на лыжах на полозья налипало снизу по сугробу, и ни тпру ни ну ни на каких лыжах.
А вскоре нам снова запрягли Копчика – и мы уехали домой, к баб-Васильке и бельгийцам.
Да и школа ненавистная опять началась.
Мой учитель Павел Валерианович Месснер
В мае 1982 года мне исполнилось пятнадцать.
Я окончила Гнесинскую семилетку, но вопрос о выборе училища не стоял: в Мерзляковке преподавал он, Павел Валерианович Месснер.
Его знали многие наши друзья.
Говорили: «К Паше поступаешь? Молодец!»
Майским жарким днем мама привела меня к нему домой, и первый урок он преподал мне сразу же, на пороге: он протянул мне руку с приветствием, а я в ответ, очень смущаясь, подала свою совершенно ватную вялую девичью кисть.
Он тогда улыбнулся и тихо сказал: «Чуть-чуть покрепче, вот так».
Не знаю никого и по сей день с таким рукопожатьем: энергичным и полным доброжелательства.
И ободряюще глядеть новому человеку в глаза я тоже, кажется, у него научилась.
В большой комнате