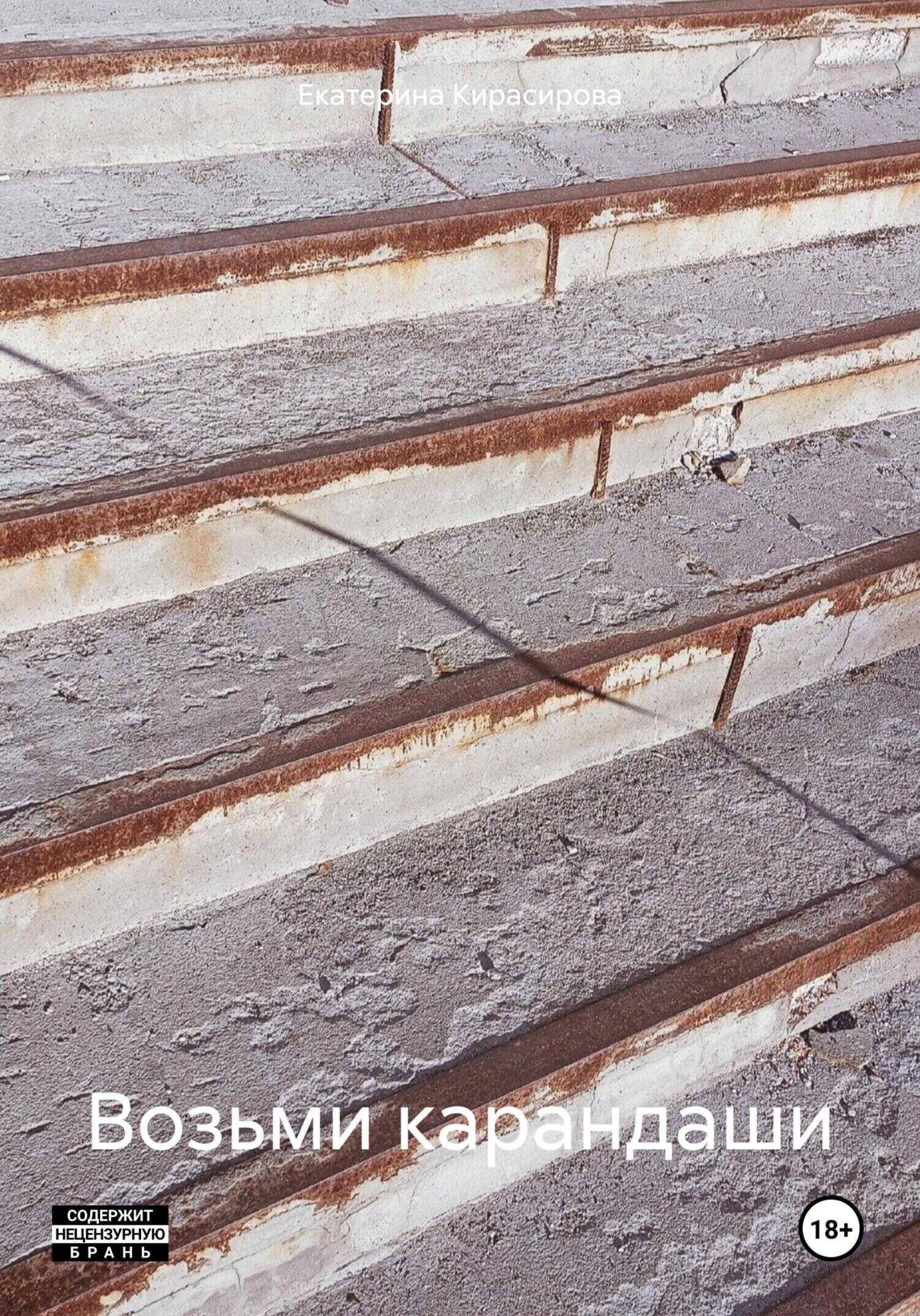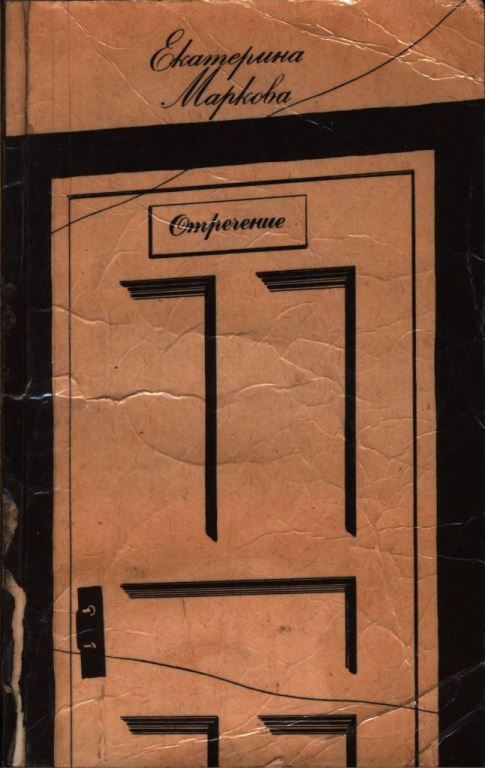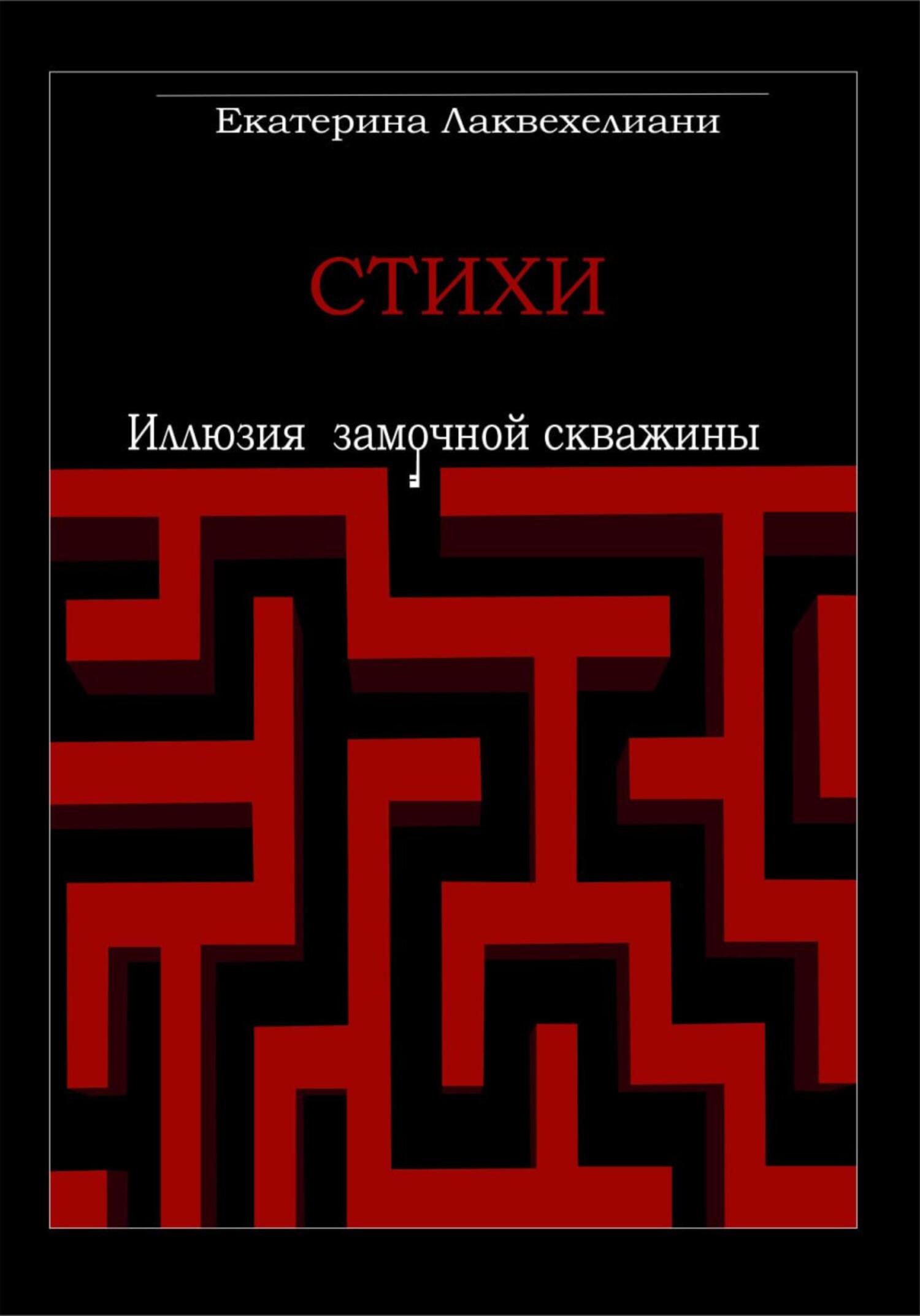я сыграла ему всю программу, и, кажется, даже неплохо.
По крайней мере он выразил желание взять меня в свой класс.
Потом в средней комнате пили чай.
Взрослые – мама, он и его жена, красавица Юлия Михайловна, – разговаривали, а я помалкивала, прислонившись к стенке. Потом встала, и на обоях осталось мокрое пятно от моей разгоряченной спины.
Стыд-позор был невыносимый, но П. В. и Ю. М. как-то так этот факт юмористически повернули, что чувство катастрофы быстро прошло и топиться стало необязательно.
И дальше было четыре года счастья.
В классе всегда стояло два рояля, и он постоянно показывал.
Говорил немного – просто: «Кать».
Я подходила к его роялю и смотрела, как из моей корявой и косноязычной фразы можно сделать сущую красоту, с логической и ясной опорой, удобную, гармоничную и, главное, со смыслом.
Он занимался, в основном, тем, что я бы назвала «одухотворенной технологией».
Он был не только и не столько замечательный музыкант, он был – сама музыка. Она текла в его сухих тонких и длинных пальцах, покрытых пепельными волосками и всегда прокуренных, и легко и естественно выливалась на клавиатуру.
Занимаясь, он закидывал тонкую правую щиколку на левую коленку и – о, ужас! – курил в классе, помещая шаткую целлофанку для окурков между си-бемолем и до-диезом. Когда эта «пепельница» вставала на пути какого-нибудь пассажа – огибал ее.
Он был небольшого роста, едва ли выше меня, сухонький, чуть-чуть сгорбленный, а по лестницам бегал, как юноша: помню, сижу на подоконнике у лестницы и слышу этот его веселый какой-то бег тремя пролетами выше, стремительный и ужасно многообещающий.
Общим местом всегда было то, что он похож на Евстигнеева в роли профессора Плейшнера.
Как-то мы вместе по пути из училища поднимались из подземного перехода на Арбатской. Идем, а перед нами вырастает на огромной афише кинотеатра «Художественный» он сам, П. В., огромное лицо метров 8 на 9… Это был, конечно, Евстигнеев, но я вдруг стала давиться смехом, гляжу – и он хохочет себе в воротник пальто…
Надо ли объяснять, что для меня он был самым обаятельным мужчиной из всех, кого я встречала.
Весной я обрывала у себя на дачном участке все ландыши и стояла такая, дурища влюбленная, в коридоре перед классом, дожидалась, когда сердце перестанет стучать и я войду непринужденно и положу тугой букетик на пюпитр – мол, вот, решила принести…
Он, конечно, все понимал. И, думаю, не я одна млела.
Но он был великодушен, добр и удивительно деликатен.
Как-то я пришла на урок, а передо мной занимались с ним еще две студентки. Я села на диванчик в классе, вынула книжку (Фолкнера, как сейчас помню) и сижу, мол, смотрите-какое-умное-читаю.
А П. В. прошел мимо и тихо, совсем не стыдя, спросил:
– Кать, послушать не хочешь?
Вся пунцовая, я засунула книжку в сумку. Потом, после урока, он, как будто заглаживая мою же глупость, очень интересовался: что была за книга? – и минут двадцать мы обсуждали с ним и «Шум и ярость», и «Особняк», и рассказы, и Хемингуэя заодно…
Фамилия его матери была Катуар. В Подмосковье есть две станции с таким названием – это их бывшие имения. В Москве семье его предков принадлежал целый небольшой квартал между Петровским бульваром, Петровкой и Крапивенским переулком возле монастыря. Адрес был такой: «Москва, Катуарам».
Эта благородная «тонкая кость» порой сказывалась не только в его повадке, интеллигентной, простой и аристократичной, но и буквально. То и дело он поскальзывался и порой ломал ноги. Я бы, упав так, чертыхнулась бы только, но его помню в гипсе.
Однажды я уже сидела в артистической Малого зала, пережидая однокурсников, хотя давно уже могла бы сыграть, но без педагога не положено было. Уборщица уже стала пол мыть. И тут пришли и сказали: «Кто тут из класса Месснера?» – «Я» – «Он ногу сломал» – и ушли. Не помню – сыграла ли вообще: сердце от жалости ужасно стеснилось и слезы сами потекли.
Но, вообще говоря, я любила его ждать и договаривалась заниматься последняя. Он ко мне благоволил, и мы иногда после урока гуляли вдвоем по бульварам. Подходим как-то к Пушкинской, а он, вместо метро, тихонько направляет меня на другую сторону, где бухает барабан и слышны отголоски труб. Оказывается, он запомнил из какого-то разговора, что я обожаю духовые оркестры на улице… Правда, на этот раз была какая-то жуть: советские горлодеры пели что-то боевое и фальшиво-чувствительное. Мы оба поморщились, а он засмеялся и сказал:
– Ну, извини, это, кажется, не совсем то, что тебе нравится…
Я-то любила старинные марши и вальсы…
Больше всего я любила играть с ним в ансамбле – это когда я разучивала концерты (Моцарта, Бетховена), а он исполнял партию оркестра за вторым роялем. Впечатление было – словно с Арнонкуром играешь. К своей партии относился творчески. Иногда вдруг слышу – поменял сам что-то там в транскрипции. Я оглядываюсь вопросительно. Он бурчит недовольно:
– Да не буду я тут дублировку твоей мелодии играть, а то какой-то Пуччини вместо Моцарта получается.
Как-то раз на экзамене я перепутала в двадцать седьмом концерте Моцарта экспозицию с репризой. В экспозиции там и волевой аккордовый возглас, и ответ на него играет оркестр, а при повторении, в основной тональности, аккорды пумкает оркестр, а «отвечает» пианист. Ну, а я послушала аккорды и ничего не сыграла. Как в экспозиции. П. В. чуть подумал и сыграл за меня. Не очухалась я и при повторном проведении, и П. В. продолжал играть за меня.
А я сижу на своей банкеточке и думаю удивленно:
«Вот Месснер, такой высокой культуры человек, а зачем такую безвкусную паузу сделал? Да еще чего-то шипит на меня… Ой-ей-ей» – и тут я поняла, что это он мою музыку играет, и давно уже… А шипит – это, мол, хватит спать…
Когда ему нравилось, что я делаю за роялем, он горячо увлекался, бегал по классу и сопел, дирижируя и очень выразительно жестикулируя.
Когда я играла скуку и мертвечину – вздыхал, мучился, а я холодела…
Так было во время невероятно нудно разученного мною интермеццо Брамса. Оба измучились страшно, пока я играла, а он выслушивал. Но вот я закончила, и он спросил мягко:
– Кать, знаешь такие стихи Пастернака: «Годами когда-нибудь в зале концертной…»
– Знаю, – оживилась я, гордая эрудицией: «мне Брамса сыграют, тоской изойду!»
– Вот именно, – грустно сказал он.
После «итальянского концерта», который я, по моему мнению, очень лихо и темпераментно отчебучила, он заметил:
– Неплохо, но Бах никогда не был пионером.
Очень