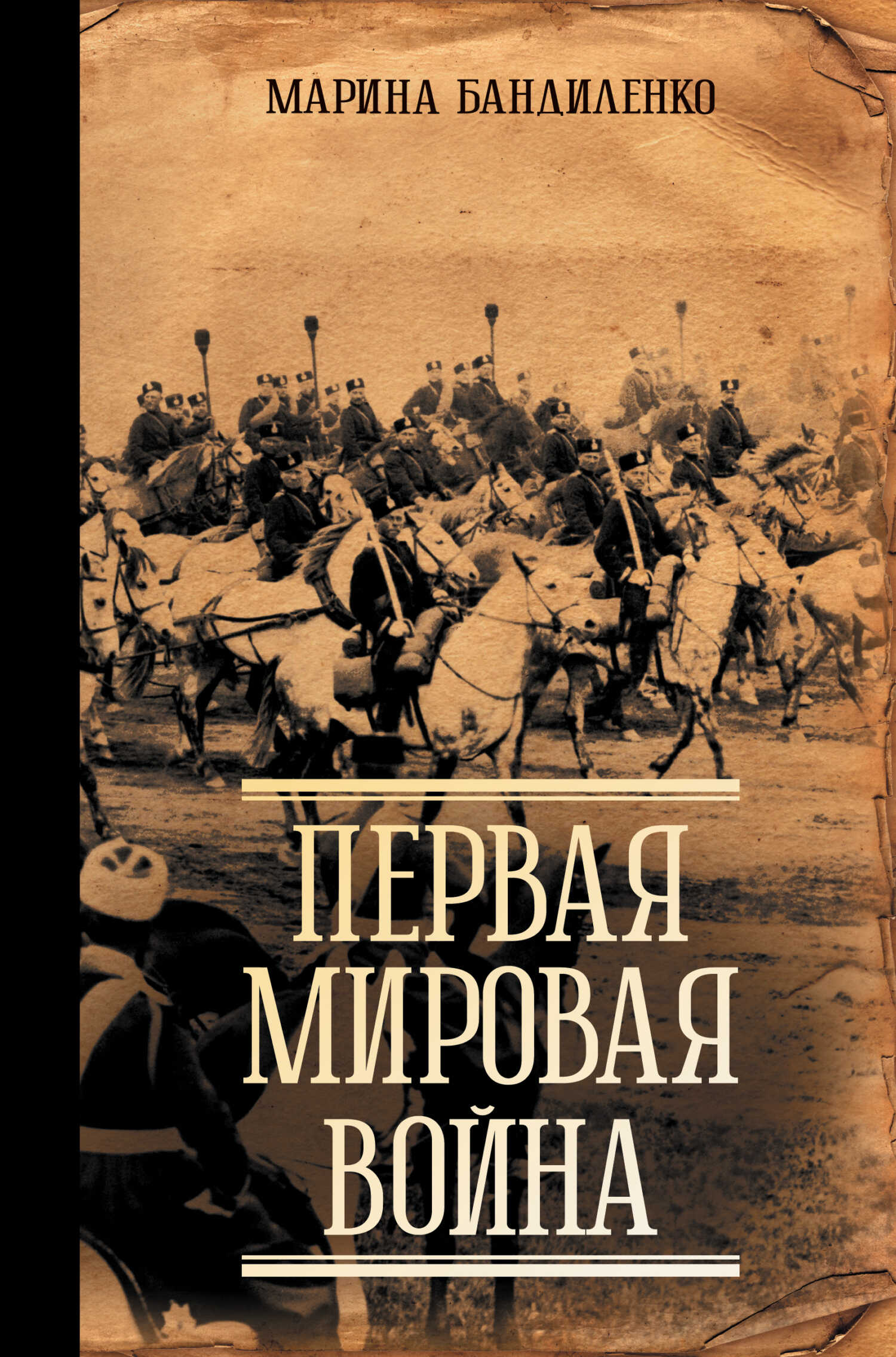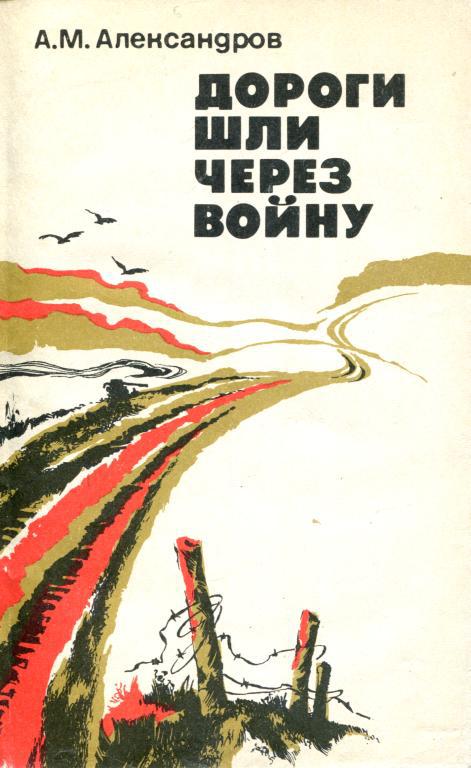Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 56
В качестве подъемных на организацию этой системы царь истребовал из казны 100 тысяч рублей, что было фантастической суммой: на эти деньги можно было в течение года содержать 20 тысяч стрельцов или построить 100 огромных каменных храмов. Неофициальной столицей опричной зоны стала Александровская слобода, превращенная в крепость. Элитой опричного государства было братство из 300 человек, организованное как военно-монашеский орден, игуменом которого был сам царь. Общее количество опричников первоначально составило 1000 человек, позже – до 6000, в том числе люди незнатного происхождения и даже иностранцы.
Лифляндские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе, попавшие в русский плен во время Ливонской войны, шесть лет состояли в опричном войске, а после бежали к польскому королю. Они оставили записки о своей службе у русского царя, которые со жгучим любопытством и ужасом читала вся Европа.
«Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе»:
«Опричники должны во время езды иметь собачьи головы на шее у лошади и метлу. Это обозначает, что они сперва кусают, как собаки, а затем выметают все лишнее из страны. Должны были носить грубые верхние одежды из овчины наподобие монашеских, под ними скрывалось одеяние из шитого золотом сукна на собольем или куньем меху. Все братья и царь прежде всего должны носить черные монашеские посохи с острыми наконечниками, а также длинные ножи, чтобы, когда вздумается убить кого-либо, иметь все приготовленным».
В 1567 году, когда Иван Васильевич отправился в очередной военный поход на Литву, ему в руки попали документы, из которых следовало: польский король предлагал князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и боярину Федорову перейти на его сторону. Возможно, это была польская диверсия с целью дискредитировать лучших воевод противника. Но Иван Васильевич счел это достаточным для того, чтобы провести расследование и объявить о боярском заговоре против государя. Первой жертвой стал боярин Федоров.
После нескольких месяцев опалы Федорова вдруг пригласили пред светлые государевы очи. Боярин увидел пустой трон, на нем – парадное царево облачение, а сам великий государь в своей опричной рясе скромно стоял в стороне. Ласково, но твердо Иван Васильевич велел боярину облачиться в царские одежды и сесть на трон. Федоров не посмел ослушаться царя и осторожно присел на краешек трона. А государь вдруг бухнулся перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место, получив все, о чем мечтал?
Федоров не успел ответить. Иван IV своей рукой зарезал боярина, а тело его велел протащить через весь город и бросить в навозную яму. Так начался большой террор. Казни аристократов без суда и следствии сопровождались зверскими убийствами их жен и детей, домочадцев, слуг. Опричники были освобождены от судебной ответственности, им позволялось все: любые злоупотребления, прямые грабежи, изуверства. Страна оцепенела в страхе.
Митрополит Афанасий, не в силах повлиять на царя, оставил кафедру, сославшись на телесные немощи, и заперся в далеком монастыре. Иван IV подобрал новую кандидатуру – соловецкого игумена Филиппа (Колычева). На соборе, в присутствии высшего духовенства Филипп заявил, что он даст согласие, только если царь отменит опричнину. Ивану Васильевичу был очень нужен митрополит: кафедра предстоятеля не должна пустовать. И царь сам принялся доказывать игумену, что опричнина совершенно необходима в нынешних тяжелых условиях. Доказывал, пока не охрип, но Филиппа не убедил. Тот согласился, только выговорил себе право «советовать царю, как прежние митрополиты советовали».
Два года митрополит Московский и всея Руси Филипп бился, пытаясь вытащить царя из черной бездны, куда он тащил за собой всю страну. Он вступался за осужденных и многих спас от смерти, открыто обличал опричников, призывал царя к покаянию. Он не боялся никого, кроме Бога. И наконец, демонстративно отказавшись благословить царя, покинул свою резиденцию и удалился в Новодевичий монастырь. Церковный суд, собранный по приказу царя, низложил Филиппа. Были казнены все его родственники. Владыку подвергли публичному унижению, избили, заковали в кандалы… Однако убить Филиппа Иван все же не решился – низложенный митрополит пользовался огромным авторитетом – и отправил его в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь.
В 1569 году, отправляясь в карательный поход на Новгород, царь послал к Филиппу своего ближайшего помощника Малюту Скуратова испросить благословения на поход. Филипп отказал, и Скуратов тут же, в келье, задушил его. Спустя сто лет митрополит Филипп Московский будет прославлен в лике святителей, ныне его мощи покоятся в Успенском соборе Кремля, рядом с «царским местом», где когда-то венчался на царство Иван IV, прозванный потомками Грозным.
В тот год он многое успел сделать. Дабы не вводить своих бояр в соблазн заменить грозного царя на его кроткого брата, велел извести князя Владимира Старицкого со всей его семьей. Но пришел донос, что новгородские бояре составили заговор против государя, желая предаться польскому королю. И государь с верными братьями-опричниками отправился спасать заблудшие души новгородцев.
Поход опричного войска на Новгород начался осенью 1569 года с массовых убийств и грабежей в Твери, Клину, Торжке, документально подтвержденное число жертв – 1505 человек. В Новгороде царь с войском пробыл с 2 января по 15 февраля, все это время продолжались массовые казни с применением жесточайших пыток, до 1500 человек в день, в том числе женщин и детей. Документально подтверждено около 3 тысяч жертв, а по данным летописей, погибло гораздо больше. Новгород и вся округа на 300 километров были полностью разграблены.
Иван Васильевич пошел дальше. Во Пскове были казнены несколько десятков человек, и первым – игумен Псково-Печерского монастыря, которого царь убил собственноручно. Прослышав о знаменитом юродивом Николке, Иван Васильевич захотел его увидеть и сам пришел к нему в келью. Николка усадил царя обедать и протянул кусок сырого кровавого мяса: «На, съешь, ты же питаешься мясом человеческим». От неожиданности царь потерял дар речи. А юродивый, беснуясь, выкрикивал страшные пророчества и грозил ему многими бедами, если хоть волос упадет с головы псковских людей. Продолжать казни царь поостерегся, покинул Псков и отправился искать сообщников новгородской измены в Москве.
К лету 1570 года розыск был окончен. На площади в Китай-городе было казнено 130 человек, в том числе – главный советник царя по вопросам внешней политики, хранитель большой государственной печати дьяк Иван Висковатый, царский казначей Никита Фуников Курцов, а также главы Поместного и Разбойного приказов и Большого прихода – главного финансового ведомства. При этом народу было объявлено, что в бедственном состоянии страны: военных поражениях, разорении, запустении земель – виноваты именно эти чиновники. На самом деле некоторые их них всего лишь пытались уговорить государя отменить опричнину.
Спустя год после московских казней на южной границе появилось огромное войско крымского хана Девлет-Гирея. Войск для отражения этого нашествия не хватало. Для отражения нашествия вышли раздельно опричные и земские отряды.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 56