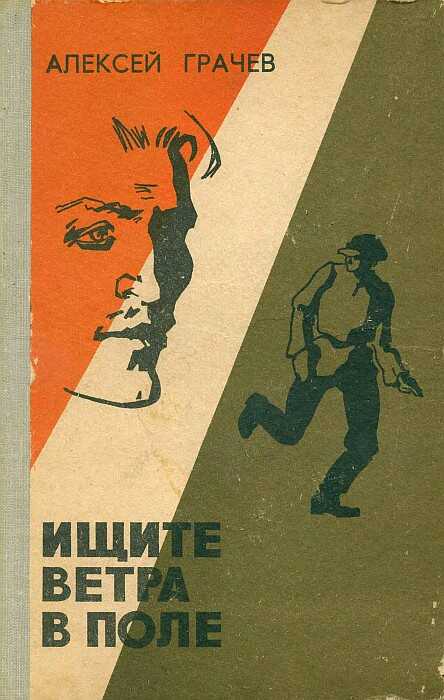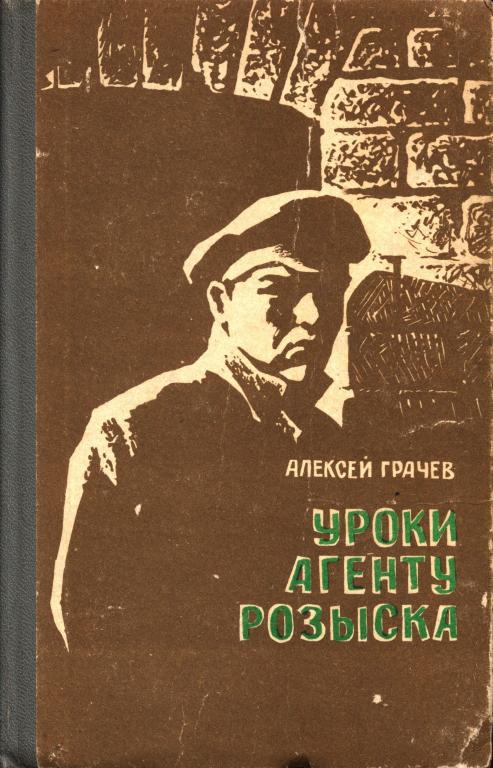двери, ни шагов. А может, подумал, что это опять старуха, только что осветившая светелку керосиновой лампой. Он сидел спиной к двери — в нижней холщовой рубахе, спущенной на штаны, качая в такт музыке косматой рыжей головой. Светелка была невысокая, и голова едва не елозила по темным доскам потолка. Хлопала форточка в порывах влажного ветра, позванивали стекла в крохотном оконце. Огонь в лампе дрожал и метался — тянулся к потолку желтым языком, поблескивал на дуле обреза, лежавшего на полу, у ног Симки.
Кажется, Симка не удивился, увидев около себя вооруженного человека, схватившего быстро с пола обрез. Продолжал играть, и руки его, подрагивая, мешали кнопки. Лицо, густо забрызганное веснушками, было спокойно, глаза прищурены. Двигались мерно скулы первобытного человека, тяжелые, поблескивающие от испарины.
— Хватит, поиграл, — проговорил Костя. — Клади свой баян и выходи.
Только теперь испуг появился в глазах Будынина. Меха инструмента поползли на обе стороны с коленей, как тесто из квашни, и нарастающий визгливый вой заставил вздрогнуть его. И, впрямь, как-то по-смешному подняв вверх веки, злобно оглядел Костю, двинулся было, собираясь броситься вперед, в это крохотное, похожее на птичий глаз, полукруглое окошечко у самого пола.
— Виноват я, — сказал Костя, с любопытством разглядывая лицо бандита. — Не промахнись тогда на реке — хлопот меньше было бы.
— Тю, как сойдутся две бабки, так про покойников, — осклабился неожиданно Симка. — Выходит, это ты был на реке... А я поберег патрон. Последний оставался в винте. Мог бы срезать, а поберег. Пусть, думаю, катается на своей бурке. Мог бы срезать, — повторил задумчиво и угрожающе, — стреляю я метко из винта. Бабу с бидоном как-то задержал на просеке. По-божески попросил: «Дай напиться молока». А она бёгу да бёгу по кочам от меня. Валяй-валяй, думаю. А сам не сношу, когда от меня бегают, вроде пса становлюсь злой. Ну, вскинул винт да ей в аккурат по руке, что с бидоном. Напился молока, пинка дал ей под зад и пошел.
И улыбнулся, широко раздвинув толстогубый рот.
— Знаем мы твою стрельбу по женщинам да детям, — с усилием сдерживая палец на спусковом крючке, глухо сказал Костя. — Куда от Грушки везти патроны?
Симка осторожно поставил баян на пол и поднялся, разогнул спину. Голова его упиралась космами в потолок, руки заболтались, как будто они затекли от игры.
— Где банда? — снова спросил Костя, не отпуская руку с кольтом. — Выходи за мной. Да не вздумай рысить.
Симка облизнул губы. Поднес к глазам руки, разглядывая их, с понурой ухмылкой отрывисто и в нос сказал:
— Не пошто...
— Мне лучше знать, не пошто или пошто.
— Серафим! Серафим! — донесся снизу вопль старика. — Серафим!
И тут Костя почувствовал, как зачастило сердце, как забилось оно где-то возле уха. Он понял, что вот теперь произойдет самое трудное. Понял, увидев сжатые челюсти Симки, сжатые в кулаки пальцы, его затуманенные злобой глаза. И предупредил глухо:
— Назад или получишь пулю.
Симка как не расслышал — кинулся вдруг с воем, вытянув вперед жилистые клешни рук. Выстрел в грудь остановил его резко. Точно невидимый человек взял за плечи, повернул к стене. Пальцы теперь с хрустом впились в обои, голова уткнулась в доски. Он постоял секунду, ноги обломились, грохнулся, пошарил руками пол и затих.
— Собака, — прошептал Костя, все еще держа кольт на весу. — Вот пес...
И неотрывно смотрел на непомерно огромные желтые ботинки, на брюки, низа которых были ободраны, на холщовую рубаху в пятнах пота подмышками. С кого-то снял эти огромные ботинки. С матроса, верно, штаны. Френч с какого-нибудь железнодорожника или почтового чиновника. А перед тем — вскидывал обрез или связывал петлю.
— Собака, — снова проговорил хрипло. — Вот хозяйский пес.
— Лиза! Лиза! — послышался снизу каркающий голос Мышкова.
Бегом Костя спустился вниз, прошел коридорчик. Старуха точно не слышала выстрела — о чем-то с сахарной улыбкой шептала на ухо старику и кивала головой на иконы на стене, соединенные серебряными створами. А тот смотрел на Костю расширенными безумно глазами.
— Лизза! — снова каркнул он вслед Косте.
Лиза сидела все на том же месте. Не шевельнулась, когда он, сжимая в одной руке кольт, в другой обрез, опустился устало на скамью рядом с ней.
— Что с ним? — спросила она шепотом.
— С ним все, — ответил он хрипло и стиснул челюсти конвульсивно. Живот пронзила боль, как перед рвотой, рот наполнился отвратительной и горькой, как полынь, слюной.
— С ним все, — торопливо повторил он, чтобы прогнать эту нахлынувшую слабость. — Одним из банды меньше...
— Куда его теперь?
— В Никульское свезем... В милицию.
— Возьмите меня в дорогу, — попросила жалобно она. — Из Никульского я пойду в уезд, а там сяду на поезд.
— Нет, — ответил он строго, — вам надлежит быть здесь. Может быть, скоро вы узнаете о муже. Его иль возьмут живым, или застрелят.
Она вскрикнула, а он добавил, клоня голову, чтобы не видеть ее умоляющего взгляда:
— Должны взять или застрелить...
Ему вспомнились клочья тумана, летящие от Аксеновки, от реки, едкий дым срубовской папиросы, от которого першило в горле, неприятный металлический голос мужа этой вот молодой женщины: «Что ж, так и отпустить голубка?»
А еще длинное костлявое тело, падающее за скамью, с грохотом опрокинутого ведра с водой, с черпаком.
— Он был здесь?
Она кивнула головой:
— Один раз, день назад. С час был всего и ушел. Боялся чего-то. Обещал прислать за мной человека. Вот Симку и прислал... как говорит сам Симка, а записки не было.
— Про банду Симка не говорил?
Она сама спросила его:
— А зачем это ему говорить было? Не знаю, куда бы он меня увел...
Вздохнула, сцепила пальцы с какой-то торопливостью, прижала их к груди:
— Он всегда молчал. Сидел возле Михаила Антоновича и молчал. И в тот первый раз тоже только сидел. Только когда Михаил Антонович вдруг стал кричать — я это из другой комнаты слышала: «...и тебе записал бы, Симка, добра», — вот тут что-то сказал. Потом выругался громко, а немного погодя и ушел в совхоз. Наследство, вероятно, обещал, — глянула она на него внимательно.
Он усмехнулся:
— Пообещал... Какое там наследство. А муж ваш тоже не рассказывал?
Она промолчала, и тогда он