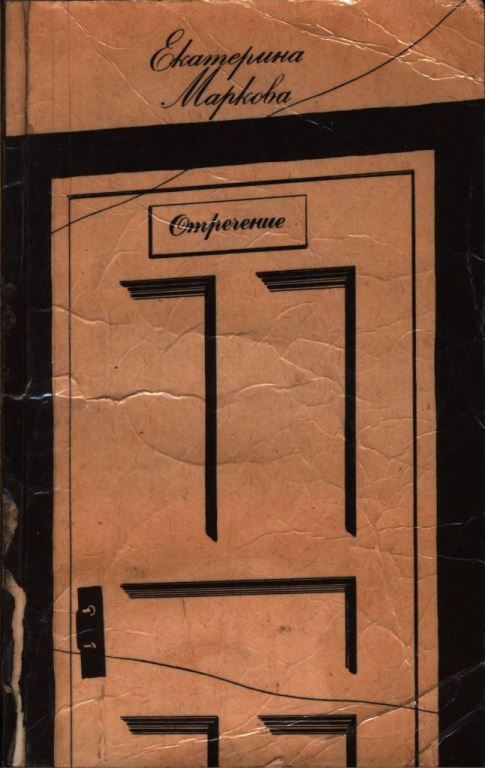тетя Ружена, которых я так называла, потому что знала обоих с детства – они оба были учениками моего деда Реформатского и друзьями родителей.
На столе – карта, там отмечены всякие «фасолевидные анклавы», то есть деревни и села, где говорят так-то или так-то. Все было уже довольно подробно исследовано нашими предшественниками, нам оставалось лишь выяснить, как в одной деревне произносят «О» под ударением (как дифтонг или как очень закрытую гласную), или какая в другой деревне бытует форма третьего лица единственного числа в глаголе «печь» или «пекти» (то есть как говорят – «пекет» или «печет»?).
После завтрака отправлялись выяснять. Иногда нас подвозил трактор, иногда ехали на подводах с молоком, вместе с местными девушками и ребятами, которые зубоскалили на диалекте так виртуозно, что иногда и понять ничего нельзя было.
В случае с гласной «О» рекомендовано было навестить старушку в последнем доме – «информанта» (данные и адрес которой тщательно записывали в тетрадку) – и выслушать от нее слово «корова». Самим произносить его было нельзя: услышит бабушка, как говорят москвичи, и будет подражать, а это нам незачем.
Казалось бы – чего легче? Завалились мы к бабке в избу, сама коровушка была на выпасе, а бабка сидела одна, выполнив утренние хозяйственные обряды.
Спрашиваем:
– А где ваша Зорька или Машка?
– А у меня две: Катька и Любимица.
– Кого это у вас две?
– Ну, про кого спросили. Трехлетка и мамка ее.
– Обе дойные?
– А как же? Чего недойных-то держать.
– Хммм. А вот там у вас – клеть?
– Точно, клеть.
– И кто там живет?
– Ну, как кто? – мыши да крысы, да сама животина стоит.
– Как вы сказали? Кто стоит?
– Животина моя!
– А что это?
– Ну – скотина иначе, девки. Что-то непонятливые вы.
В общем, долго бились, но так бабка слова «корова» и не сказала. Решила только, что мы немножко «того», глупости какие-то спрашиваем. Потом она, кстати, раззвонила про глупеньких городских по деревне, и, куда мы не придем, хозяйки начинали с порога объяснять:
– Смотрите, девки, вот это у меня стол. А вот это, девки, чашки. А вот тут, смотрите-смотрите: тарелки и вилки! И ложки! – И смотрит так хитро, потешается.
А эпизод с коровой закончился вообще чудесно: по деревне потянулось стадо, зазвенели колокольчики, бабка прервала дозволенные речи и сказала:
– Ну всё, девки, Катька с Любимицей идут, мне пора «обряжаться».
Одна моя коллега и не знала, что это от слова «обряд», и говорит:
– Да не надо, бабушка, вы и так красивая!
Но – турнули нас вежливенько.
И вот бабка загоняет свою скотину в ворота, поглаживает, треплет по шее, а мы, нацелившись фотоаппаратом и диктофоном, делаем последнюю попытку:
– Баушка! А вот кто это рядом с вами стоит?
Бабушка делает приятное лицо для кадра, одновременно выбирая самый глупый ответ на такой глупый вопрос, и затем отвечает:
– Это, девки, ЛЕВ!
Вторая уморительная история случилась в селе по соседству. Там надо было про форму «печет-пекет» выспросить.
Сидим за столом. Наташка говорит хитро:
– Эх, пирожков бы!
– Ах, голубушки вы мои, да если б я знала, что такие гости будут, я б напекла, а сейчас уж поздно думать.
– А вот вы, баушка, дочерям-то передали свои рецепты, как они-то – умеют?
– Да шут их знает, что они там в городе у себя делают. Может, пекут, может и нет.
– А вот теть-Маша сейчас заходила, у нее как с этим? Бывает, что…
– Не, не ходите к ней, приходите ко мне – у меня лучше пироги!
– А теть Дуся?
– Да та малохольная вообще, у ней и тесто уходит, и подгорает все.
Тут мы ва-банк:
– Бабушка, нет, мы хотим слушать, как вы про других скажете, ну про пироги…
– Так не надо вам к другим. Сказала ж: приезжайте на праздник на какой – будут вам пироги.
– Ну, ладно, бабушка, вы просто повторяйте за нами: «Я пеку пироги!»
Бабка (глядя на нас, как на дур):
– Да что ты будешь делать, пеку я, пеку, вот крест, только сейчас нету их.
– Бабушка, просто повторяйте: «Я ПЕКУ ПИ- РОГИ».
– Я ПЕКУ ПИРОГИ!!!
Показываем на ее дедушку:
– А он – что делает?
– А ОН – ЖРЕТ!
P. S. Как-то я в сборнике прочитала, что эта история случилась с каким-то лингвистом Разуспенским или Перепреображенским.
Так вот – не верьте: это было с нами. Просто кому-то понравилось, как мы рассказывали, он пересказал Изе, а Изя Поспелову не знал, а Разуспенского даже очень. Так вот всегда это и бывает.
Ахмет, Рахманинов и другие
Есть у меня мастерская.
Не моя – родительская.
Когда-то папа и мама уступили мне ее, и я довольно долго, в два захода, с перерывом лет на десять, жила там.
Чудесное, надо сказать, место! Чего только там не происходило, и милого, и грустного.
Там делала первые шаги моя маленькая Лиза, там же мы сначала упивались с ее отцом любовью и Томасом Манном, а затем бранились и расходились.
Туда же позже приезжал под окно мой второй муж. Попросишь его: разбуди меня по телефону завтра в восемь, а то будильник сломался, а потом утром просыпаешься от какого-то непонятного жуткого звука, – а это он, влюбленный, приехал на зимнем рассвете под окно и приставляет мне к стеклу огромный старомодный будильник, громоподобный, как набат…
В эту же мастерскую я перевезла свой старенький рояль и порой играла на нем по ночам часов до трех, благо первый этаж, угол, слева подъезд, а соседи справа – такая же богема, как и я: или веселились, или спали мертвецки.
Потом, выйдя замуж за хозяина будильника и уехав из мастерской, я сдавала ее сокурснице за смешные деньги, и там лет пять жили Юля К., три кота и собака.
В нашем же «кусте» мастерских умерли от пьянки трое моих соседей. Одного я сама обнаружила бездыханным, войдя к нему, а потом мы с его женой, не успевшей заплакать, по моей инициативе и прямо при мертвеце, быстро и сноровисто вынесли все его картины ко мне, чтоб в сутолоке похорон и визитов милиции ни одна работа не пропала.
Теперь соседи сменились. Пьянок больше нет, стало приличнее, безопасней, хотя, признаться, скучнее.
Я опять жила там, разведясь вторично, строчила переводы опер и либретто – и снова много играла.
В последний период моего житья в мастерской у меня был целый класс учеников из окрестных домов. Когда я опять оттуда переехала к маме на Мосфильмовскую, многие согласились