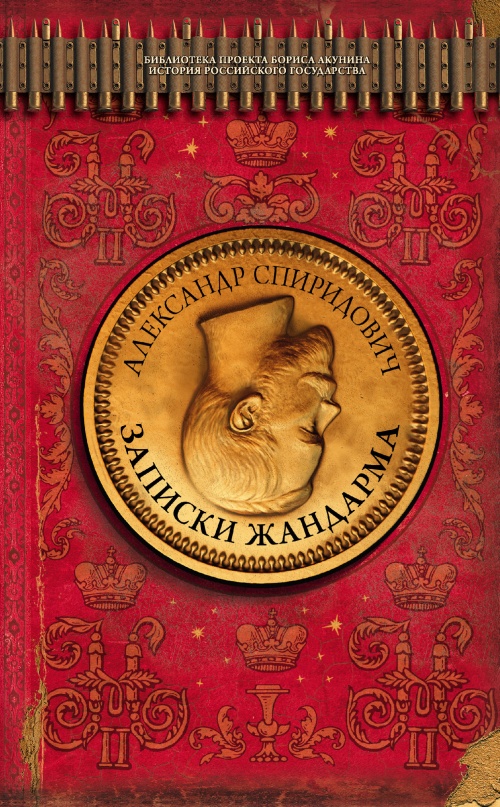Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
с Брестом в контексте того, как к нему подходили в советской России в 1917–1918 годах. Возможна и другая точка зрения, но тогда у большевиков должна была бы быть иная позиция и программа.
* * *
Итак, каков же нынешний взгляд на историю Брестского мира, какие новые вопросы и подходы находятся в поле зрения историков в нашей стране и за рубежом?
В ряде работ превалирует идея, что, заключив Брестский мир, большевики и Ленин предали интересы России, потеряв значительную часть территории (Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и часть Украины). Россия в результате Брестского мира оказалась вне круга держав-победительниц, прежде всего Англии и Франции, а стала «побежденной» страной.
В общем плане такая постановка вопроса имеет основание, в реальности ситуация была намного сложнее. Заключение мира с Германией было одним из ключевых пунктов программы, с которой большевики смогли привлечь на свою сторону миллионы российского населения. Скорее можно говорить, что революция и сама война способствовали разложению российской армии, которая в 1917 году потеряла способность к ведению военных действий. Лозунги продолжения войны, провозглашенные Керенским и Временным правительством, во многом явились причиной того, что широкие массы населения перестали поддерживать правительство.
Гипотетичным остается вопрос: продолжили ли бы руководители Англии и Франции сотрудничество с большевиками, нацеленными на мировую революцию? Как известно, в результате ноябрьской революции в Германии в ноябре 1918 года советское правительство аннулировало Брестский мир. Но это не вернуло России территории, утраченные ею по подписанному в Бресте договору.
Сложившаяся ситуация в 1917–1918 годах снова высветила проблему взаимоотношений России и Германии. В некоторых трудах последнего времени активно поддерживается идея, что эти две державы в течение многих десятилетий, а может быть и столетий, определяли судьбы стран Восточной и Центральной Европы. Ослабление одной из этих держав вело к усилению позиции другой страны на востоке европейского континента.
Другой альтернативой были соглашения и совместные действия России и Германии в восточно-европейском регионе, что и показывают события XVIII века и последующих эпох. Так случилось в 1918 году, когда в результате революции и ослабления России Прибалтика оказалось в орбите Германии, а Украина фактически находилась под германским протекторатом.
Другой расклад событий мог быть, если бы большевики не взяли власть в России, но это была бы другая история. А в реальности после Октябрьского переворота большевики заключили перемирие и мир с Германией, выполняя свои основополагающие лозунги и обещания.
Что касается Германии, то на этапе реализации Брестского договора она смогла получить контроль над странами и территорией на востоке Европы. Этот контроль был утрачен, и в итоге Версальского мира упомянутые страны на востоке европейского континента получили независимость.
Как мы видим на примере оценки смысла, предыстории и последствий Брестского мира, можно поставить и некоторые общие вопросы: об альтернативности истории, о традициях европейской истории, о взаимоотношении войны и революции и т.д.
Следующие проблемы связаны с сущностью советской власти и большевистского режима.
Историки внимательно изучают легитимность советской власти и ее первых шагов. Известно, что главный лозунг большевиков «Вся власть Советам!» реализовывался в условиях, когда в Советах существовали различные политические партии. В октябрьские дни 1917 года большевики и Ленин шли вместе с левыми эсерами, создавая ощущение возможного плюрализма. В эти же дни велась подготовка к созыву Учредительного собрания, выборы в которое проходили в стране после февраля 1917 года.
В первые месяцы после Октября 1917 года решался вопрос о характере новой власти, о судьбах демократии или жесткого авторитаризма в России. Известно, что вопрос о подписании и принятии жестких германских условий вызвал многодневную острейшую дискуссию внутри большевистской партии, а также между большевиками и левыми эсерами в рамках советского правительства, в котором были представлены именно эти партии.
Ленин назвал дискуссии и острейшую полемику в период Бреста «самым крупным кризисом в партии большевиков». Ранее мы рассматривали эти споры во внутрипартийном контексте и в плане противостояния ярых сторонников мировой революции в лице «левых коммунистов» и сторонников национальных приоритетов «социалистического строительства».
Сейчас, с учетом современных подходов к оценке российской революции, видимо, было бы целесообразно рассмотреть дискуссии в партии в период Бреста и с точки зрения «плюрализма». Я уже говорил, что в современных трудах по истории революции один из британских авторов упомянул термин «большевистский плюрализм», распространяя его не только на события начала 1918 года, но и на партийные дискуссии 1920-х и 1930-х годов, включая и анализ «сталинских репрессий» как «итог» всех этих дискуссий.
Фактически, острые споры по вопросу о Бресте в январе-феврале 1918 года, казалось, создавали впечатление, что Ленин и его единомышленники были готовы на дискуссии по важнейшим вопросам внутренней и международной жизни. Но, как показали эти и дальнейшие события 1920–1930-х годов, это был «плюрализм» особого рода.
С одной стороны, дискуссии в связи с подписанием Брестского мира проходили по «правилам» столкновения различных политических сил и борьбы разных, порой противоположных мнений. Ленин и Троцкий были в центре этих дискуссий. Как и положено, они заканчивались голосованием, которое выявляло «победителя».
Завершением всего процесса стал всероссийский съезд Советов, который должен был окончательно рассмотреть и утвердить решение о подписании Брестского мира. На этот раз в нем участвовали представители большинства регионов России. Учет их мнения, казалось, должен был подтвердить «плюралистические» тенденции в начальный период советской власти.
Но очень скоро ситуация в России стала меняться. Разгон Учредительного собрания, мятеж «левых» эсеров, убийство немецкого посла, активизация антибольшевистских сил, начало «красного террора» ознаменовали новый этап большевистского правления.
Особый вариант «большевистского плюрализма» состоял в том, что проходившие дискуссии не вели к поискам консенсуса или к общим компромиссным решениям. В самом начале работы Учредительного собрания его членам был предъявлен ультиматум – или утвердить решения II Съезда Советов, или распуститься. В итоге собрание было распущено. В ходе дискуссий о Брестском мире Ленин поставил вопрос в ультимативной форме – или принять предлагаемое им решение, или он подает в отставку. И здесь в итоге была одобрена позиция Ленина и его сторонников.
Наиболее рельефно этот «плюрализм» проявился в 1920–1930-е годы, когда итогом жестких споров и дискуссий были массовые репрессии и ликвидация противников и оппонентов.
С переговорами и с подписанием Брестского мира связан еще один вопрос, который в наши дни приобрел особую актуальность. Речь идет об участии в переговорах в Бресте представителей Центральной Украинской Рады. В прежних исторических трудах советского периода эти эпизоды в Бресте упоминались, но без подробного анализа и рассмотрения. Но сейчас особая острота этого сюжета возникла в связи с переменами и новыми веяниями в историографии современной Украины.
Гипертрофированные поиски своей идентичности привели ряд украинских авторов к идеализации и преувеличении роли Центральной Рады. На Украине уже
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190