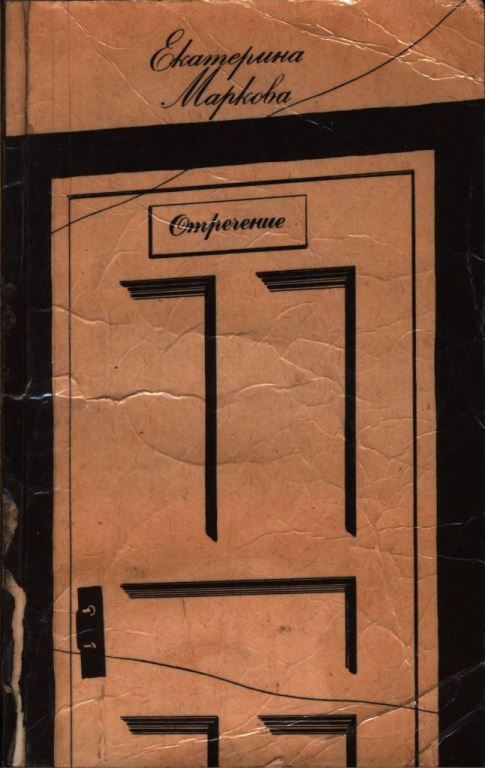Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 64
поет с букетом, а потом танцует без туфелек?
– Нет!
– Это смотреть надо.
Сворачивает в темный переулок вдруг. Я слегка напрягаюсь.
– Вы куда? Дворами тут не проехать!
– Вы ж сказали, смотреть надо, я на ходу не могу!
Выключил мотор.
Нахожу ему песенку Легара.
Смотрит два раза. В слезах. Ну и ладно, я не спешу.
Папочка смотрел и по три, и тоже со слезами.
– Ох, счастливец этот скрипач, которого она обнимает! – вздыхает Муса. (Его Мусой зовут.)
– Это она чтоб отдышаться, – говорю я, – потанцевала и дыхание сбила, вот и придумала такую штуку.
– Что вы говорите?! Эх, вот сказал же я, что всю жизнь вас ждал! Еще ни с кем так душевно не ездил.
Завелись, поехали дальше.
Деньги все-таки взял. И протянул краба.
Я дала свою ручонку и в следующую секунду была зацелована.
– Теперь завтра мы пойдем пить чай в кафе, Катерина!
– Боюсь, что не пойдем, – вздыхаю, спешно вылезая.
– Почему? Не пара мы? (Он понятливый, Муса.)
– Не пара…
– Не как Юсиф с Анной?
(Что-то бормочу уже с улицы.)
– Ну, прощайте, век буду вас вспоминать!
– И я!
Хороший он, Муса, правда?
А я снобка.
Юрий Савельевич Злотников
Умер Юрий Савельевич Злотников.
Милый, дорогой Юрий Савельевич!
Кумир, учитель, вдохновитель и артист.
«Юрка», как называли его родители, «Савелька», как втайне называли его мы, ученики, ученицы и просто его обожатели.
Замечательный, мощный художник, пролагатель нехоженых путей, мыслитель и энтузиаст искусства, гениальный педагог.
Хожу по дому и гляжу на одну его картину над нашим пианино: с лесистым пейзажем, где витальные точечные разно-зеленые мазки-листва сложным пунктирным ритмом чередуются с взлетающими сине-оранжевыми вертикальными штрихами – стволами сосен, утяжеленными темно-синим и рыжим; где радостная ультрамариновая блямба и лиловый пунктир являют лесной затон, а сиреневые всполохи по всему листу – словно мысли о небе, которое стоит за этим лесом.
Я думаю о другой картине, коктебельской, которая висела долго над письменным столом моего папы, но сейчас снята и помещена в «запасники» квартиры, потому что это акварель, и она выцветает от нестерпимо яркого света обращенной на юго-восток комнаты (графики-хранители нас поймут). Папино стихотворение о подобной картине помещу в конце рассказа.
И ту и другую картину Юрий Савельевич подарил моему отцу, с которым они учились вместе в художественной школе. Папа мой Ю. С. любил и писал про него… не так много и обстоятельно, как этого бы хотел сам Ю. С., – но профессионально, внимательно и восторженно.
А я Ю. С. знала буквально с пеленок.
Он любил рассказывать, как пришел в Третьяковку, где работала мама, когда она принесла туда сверточек, содержащий меня.
«„Маша, что это?“ – „Возьми“», – так заканчивался всегда его рассказ, сопровождаемый нежно-хулиганской миной брезгливости, с которой передают описавшегося младенца.
Лет в десять меня отдали в его студию на Фрунзенской. Он преподавал требовательно и серьезно, и у него было много детей его приятелей, которых он третировал без всякой оглядки на трепетность знакомых родителей. Я там была явно не к месту, потому что рисовала технически хорошо, но к смыслу процесса была глуха…
– Какого цвета закат? – вопрошал он меня.
Я была чудовищно бездарна в живописи и, вся сжавшись, отвечала: серенького такого, непонятного. Была послана наблюдать закат в рекреацию (студия ютилась в какой-то общеобразовательной школе). Я стояла там, несчастная, глядя на унылые корпуса окружающего «микрорайона» и ничего не в силах поведать про закаты.
Плакала. Злилась. Играла по ноге сонатину Клементи, думая: а вот так-то он не сможет, деспот.
Мимо наконец прошла талантливая к живописи Маша К. – в туалет, а может, меня пожалеть, и сказала на ухо: «Закат, Катя, розовый, лиловый, фиолетовый, багряный, пурпурный, оранжевый, золотистый, понимаешь?»
Да?
И я с тех пор поняла – какого цвета закат.
Вернее – не поняла, а стала всматриваться и чувствовать.
Помню также нашу прогулку по зоопарку.
Нарисуй медведя.
Рисую – мордочка, нос, ушко…
Юрий Савельевич подходит, забирает карандаш: вот так, смотри, – двумя-тремя мощными штрихами обозначает тушку медведя, позу его, – весь лист сразу обретает смысл, композицию, силу, имя медведя, дыхание его…
Потом я забросила рисование, потому что не было таланта и желания.
На рояле играть получалось лучше и осмысленнее.
Ю. С. приходил, слушал. Пришел даже как-то на репетицию концерта, где я играла с напарницей концертино Шостаковича.
– Ты словно спишь вот тут, во второй теме, а тут – про такие важные вещи! (напевает, жестикулирует, знает музыку).
Я тогда проснулась и сыграла, кажется, ничего.
С огромным весельем и поощрением он относился к моему композиторскому творчеству. Поддерживал, подпрыговал, как говорит моя мама, запоминал наизусть.
Завидя меня, или звоня по телефону, начинал весело петь главную партию из моей сонаты: «Та-там-пара-рам-та-тарам-пам…», чем смущал меня необыкновенно. Потом я ничего более талантливого так и не выдумала, чем эта эпигонская соната, но мне было лестно необыкновенно, хотя, пытаясь быть взрослой, я повторяла за родителями, что восславляющий мое творчество Ю. С. – эксцентрик и самодур.
Лет в восемнадцать я забросила музыку и поступила на филфак. Мы тогда с любимой подругой Сашей Луняковой, многолетней ученицей Злотникова, поехали оттягиваться в Ферапонтово и праздновать мое поступление, а там уже годами проводили лето многочисленные художники разных направлений.
Жаль, не нашлось живописца, который с другого ракурса запечатлел бы Ферапонтовский пейзаж, весь усеянный по холмам мольбертами. Тогда коров было меньше на вологодских склонах и в долинах, чем живописцев, среди которых много было злотниковских учеников.
Вечером, на сиренево-оранжевом закате, устраивались просмотры с разборами. Обычно это происходило на огромном сеновале у деда Алеши, где все эти художники жили. Этюды прислонялись к высящимся стенам сена, и Юрий Савельевич просил всех высказаться.
Все высказывались, и беседы были потрясающие. Ю. С. вел их требовательно и взыскательно.
Потом приезжал на телеге с сеном дед Алеша, и в открытую дверь высокого сеновала прямо на нас начинало лететь сено, цепляя жесткими стеблями по новоиспеченной клейкой живописи и заваливая картины.
– Ээээ! – кричал Ю. С., бросаясь спасать полотна.
Общий хохот его сопровождал.
Этюды оттаскивали, и ученики бежали помогать хозяину заготовлять корм для коров…
Закат лиловел и клонился к ночи.
Юрий Савельевич меня страшно мучил и терзал, подвергая суровой критике мой выбор – идти в филологи и больше не быть музыкантом… Говорил, что играть на рояле – это дело, а вот филология, болтология и всякие праздные рассуждения – это девичий бред и чепуха. Я рыдала, убегая снова на сеновал, где уже было жутковато и пусто – все пили самогонку внизу, а наверху, в
Ознакомительная версия. Доступно 13 страниц из 64