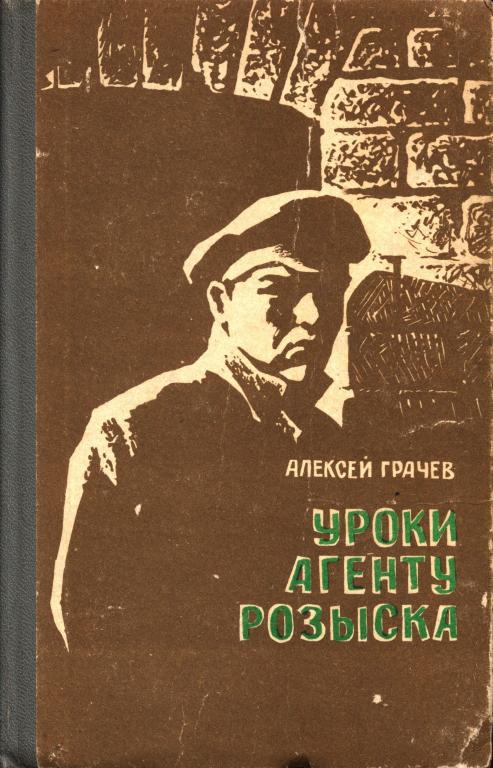таит что-то, чем-то не доволен. Хоть криком кричи от тоски, а она, тоска эта, вроде горшка на голове. Вот и нет Ванюшки Демина, а и успокоения нет. Задержится ли реформа? Разбудил Аникея — у него спал Никон, в пристройке. Выпросил стопку, «поправился» и повеселел. Пошел за Трофимом. Пить и есть не стали, поспешили на рынок с мукой. Умеет торговать Никон Евсеевич, с шутками, с хохотком, с матерщиной, то усластит покупателя словом, то выругает. Брали быстро. После пошли покупать товар. Умеет торговать Никон Евсеевич, умеет и выбирать товар. Косы выбирал на потеху магазинному люду: пробовал на зубы, ширкал по полу, — как звенит, слушал, пробовал лезвие на волосьях на затылке, щелкал ногтем. Только тогда кидал Трофиму в руки. На хомут навалился грудью — не треснул, не скрипнул — значит, отменный хомут. Чересседельник перекинул через косяк и повис на нем на манер висельника, опять же на потеху зевакам. Пусть смеются, дьяволы! Из магазина отправились на Вшивую горку, и здесь, в ларечке, подобрал Никон Евсеевич Трофиму хромовые, хрустящие, как новенькие деньги, сапоги. Бросил их Трофиму:
— На, меряй, Трошка.
Померил Трофим — в самый раз.
— Хороши сапоги.
Рассчитался Никон Евсеевич, и тут опять за свое Трофим:
— Деньги-те мне зачтете осенью, дядя Никон.
Так и опешил Никон Евсеевич:
— Дурак, — сказал едва не умоляюще, — да я же так, в подарок.
— Не надо мне подарка, — ответил батрак, когда-то послушный и покорный. И опять пасмурно стало на душе Никона Евсеевича. Нет, таит все же Трошка что-то, догадывается. Уж не ходил ли в милицию?
— Ладно, — пробурчал под нос. — Айдате-ка на ярмонку.
И вытянулся впереди аршином. Валентина рядом с Трофимом, жмется к нему, к сапогам новым, верно.
— Тебе бы еще кустюм, Трошка, ай да кавалер выискался...
И засмеялась — была дурашлива и весела. И с чего только? На ярмарке первым делом накупила леденцов, потом семечек. В ларечке чулки присмотрела лиловые, самые модные по городу-то.
Здесь, возле ларечка, и принялась прикладывать да примеривать к ногам. Никон Евсеевич прикрикнул на нее, живо смотала чулки — и в сумку и надулась, обиделась, значит, на батьку. Но разве место обиженным на ярмарке в такой-то разудалой кутерьме?
— Хороша нонче ярмонка! — то тут, то там возгласы.
Хороша, ничего не скажешь. Открыты широко палатки и ларьки — налетай, подешевело, как всегда на ярмарках. Вали валом. Из дверей пивных рев музыки в два баяна. Бутылки с пивом, горькая водка, колбаса языковая, рыба сушеная. Обнимайся, пей... Обнимайся, целуйся как брат с братом, как любовник с любовницей. В кустах за балаганами парни — то ли с картами, то ли с вином, мужики в новеньких по празднику портках, уже вывалянных в земле, в зелени, в огрызках колбасных и рыбных, девки, визжащие и растрепанные... Эх, хороша ярмонка. Все позволяется в такой веселый праздник...
Ходил Трофим в толпе, щурился. И ему нравилась ярмарка, которая затопила песчаный мыс вдоль берега. Глыбы белых домов, каменная толща церквей сквозь чугунные ограды и гущу деревьев; высокие непролазные заборы нависли над берегом, над балаганами и ларьками, над летающими лодками, над каруселями, над лотками с жареными пирожками, над пивными.
Тискался Трофим вслед за хозяином, за его дочкой в людском водовороте и всему дивился. Вот лошади, осматривающие одна другую, вдруг вскидывающие ноги, исторгая в лица людям пронзительный рев могучей груди и жаркий, в каплях слюны, дух раскаленной глотки; вот мужики, бьющие по рукам; а вот бродячие певцы, канючащие нестройно и тянущие руки к народу; или эта вот красивая девушка в легком сарафане...
— Бухара, — гудел кто-то рядом. — В тринадцатом был я там. Там не речки, как у нас, — арыки зовутся. Зеленая вода и тухлая. А им что — одно слово Азия.
За его спиной другое уже:
— А сколь корыто?
И голос продавца, торопливый и восторженный:
— Это тебе не корыто, это тебе баня целая. Гли-ко...
— А все же?
— Два червяка...
— Два червяка?
Тут вот корыто, а подальше пряники, а в другом углу самовары, сверкающие на солнце, и трубы к ним, гулкие, зеркальные от новенькой жести. А еще поодаль, посреди балаганов, целый трактор торгуется. Возле него толпа, над толпой плакат, и по нему надпись:
Вступай в кооперацию,
Стремись к машинизации.
Около трактора толпился народ. Одни ощупывали зубья колеса, другие стучали костяшками пальцев по мотору, проверяли прочность, третьи даже лезли на сиденье — неплохо это рассесться на железном стуле посередь ярмарки. И тогда лектор — молодой парень в белых полотняных штанах и белой рубахе с галстуком, в шляпе — осторожно и мягко просил:
— Граждане, купите — и он ваш, делайте, что хотите...
Потом, откинувшись, продолжал говорить. А говорил он о пользе общего поля, о том, что на общем поле вот таким трактором быстро вспашешь. А значит, мужику больше времени останется, чтобы посидеть на завалинке. Он так и сказал — посидеть да погреть пузо на солнышке. И этим развеселил толпу — она загоготала. Засмеялся и Никон Евсеевич — свесил набок голову, высматривая на тракторе стекло фонаря. Сказал не то с одобрением, не то со злостью:
— Ишь ты, и глазище-то... Выпялила, корова...
И пошел прочь. Заглянул в ларек, попросил ситцу кинуть на прилавок для Вальки. А Вальки не было в ларьке — завертел головой Никон Евсеевич да Трофиму прорычал:
— Поищи чертову девку... Только отвернись....
Выскочил Трофим, а от Вальки — какой-то парень, розовощекий и в модном пиджаке, неторопливо, пощелкивая семечки. Раз — и в толпу. А Валентина, сияющая, — в ларек.
— Папаня, что вы тут?
— Ситец тебе, а тебя черти носят...
— Так ведь весело...
— Весело тебе...
Мотнул Никон Евсеевич сивой башкой на материю:
— Вот подойдет?
— Еще и как... По вкусу мне, батяня, такой цветик. Ах, и сарафанчик-раздуванчик настрочу. По всей деревне разговор пойдет...
А сама все в окошечко на площадь, по которой буреломом толпа туда и сюда. Точно высматривает снова того парня. И что это за парень, и откуда он здесь, на ярмарке? Иль из деревни какой? Вроде бы не встречал такого Трофим. Скатал продавец ситчик в кусок бумаги и под мышку к Никону Евсеевичу.
— Пошли, — буркнул тот. — Подзакусим, да и пора трогать в дорогу. Хватит, не зима, не на печке