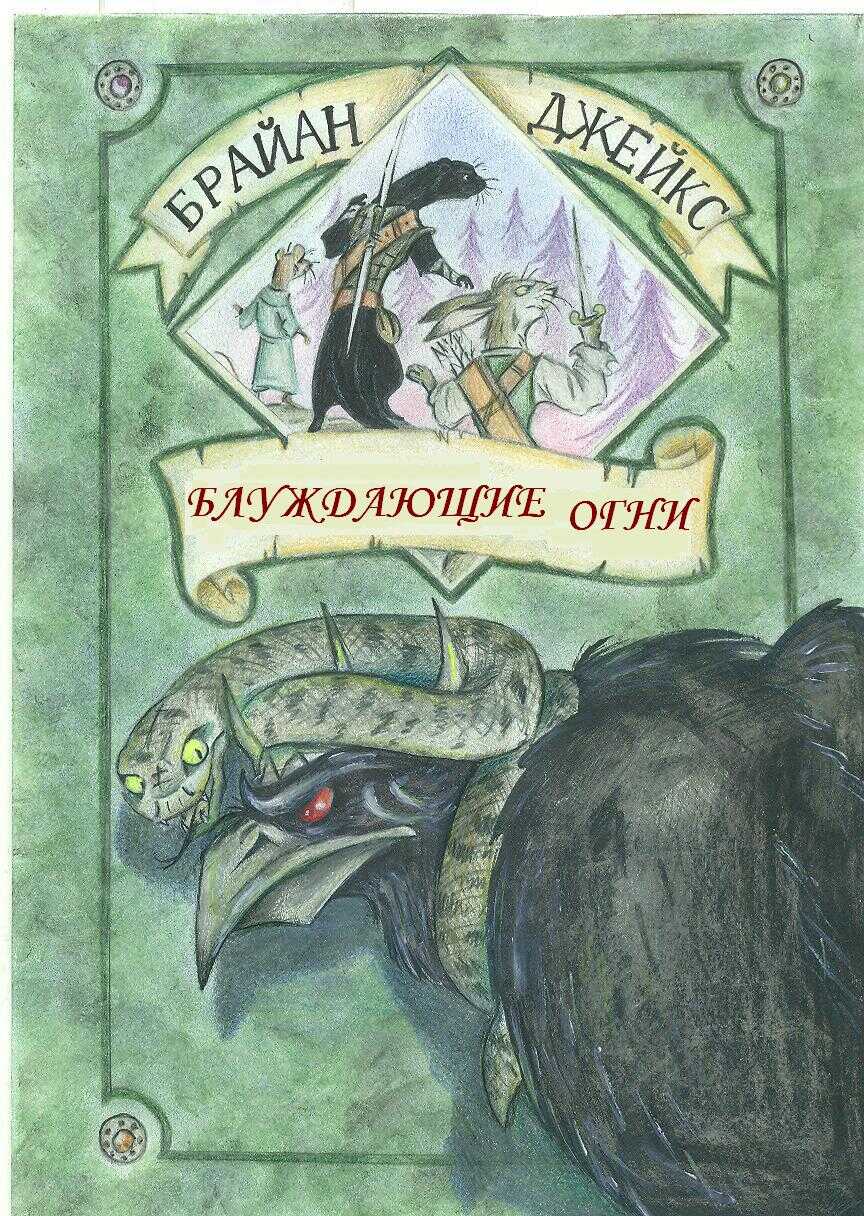Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
но и общественно значимыми. Полноценный человек должен был подтвердить свой статус человека, вступить в брак, чтобы оставить потомство, и достойно умереть. Ближайший социум после всех этих событий распределял общую судьбу, Долю, через общее вкушение пищи, застолье. Мне думается, что эти три события были слиты в первобытном сознании и их невозможно разделить, даже если речь заходит об одном из них.
* * *
Прием пищи за общим столом, смерть и секс неразрывно связаны в сознании архаичного человека, утверждает Софья Агранович. Это составляющие перераспределения Доли семьи или целой общины.
Неофит во время инициации ритуально умирал для общины. В доме Бабы Яги он вкушал «пищу мертвых», таким образом приобщаясь к миру мертвых, и пребывал в нем. Пройдя обряд перехода, он ел уже «пищу живых», чтобы вернуться в мир людей взрослым человеком. Эту протоевхаристию, то есть причащение, он получал от Бабы Яги вместе со своей первоначальной Долей и, вероятно, с именем.
Глава 2. Морозко. Зимняя инициация
Испытание снегом
«Морозко» остается одной из самых популярных зимних историй русскоязычного пространства на протяжении уже многих лет. Но сказка вызывает много вопросов. Почему старик так безропотно отвозит в лес родную дочь? Почему мачеха отправляет на мороз и свою родную дочь, зная, что она может не вернуться живой? Почему главная героиня, даже замерзая, не пытается согреться?
В сказке мы видим семью – старика и старуху с дочерями от прошлых браков. В один день мачеха решает, что старикову дочь надо отвезти в лес и оставить на лютом морозе, и муж ей никак не препятствует. На первый взгляд мачеха желает смерти стариковой дочери. Но почему? Лишившись падчерицы, старуха была бы вынуждена работать за троих и выполнять абсолютно всю женскую работу в доме, тогда как сама она уже немолода, а ее дочь ленива.
В сказке «Морозко», как и во многих других, до нас доносятся отголоски древних ритуалов и обрядов. Эта история рассказывает об обряде инициации, причем о женской, которая возникла раньше мужской. Сама сказка древнее многих других подобных историй, поскольку девушек отправляют просто в лес: нет даже ритуального дома – привычной избушки, и сам обряд проходит под деревом.
Чтобы считаться взрослым в современном обществе, человеку достаточно стать совершеннолетним. В архаическом обществе путь к взрослой жизни был сложнее. Начинался он с наступления половой зрелости, и без разницы, в каком возрасте это произошло: в 11, 13 или 15 лет. После этого неофита подвергали испытаниям, чтобы он мог доказать, что он… человек. И дело здесь не в доброте или благородстве – это современные трактовки слова. Инициация требовала от неофита доказать, что он не животное, не зверь. Он должен был пройти испытания, не дав воли звериным инстинктам.
Иллюстрация Ивана Панова к сказке «Морозко».
Российская государственная библиотека
Детали испытания и их длительность могли различаться в зависимости от сезона или региона. Например, зимой неофитов испытывали морозом, а летом – жаждой и голодом при изобилии еды. После прохождения человек получал метку, например знак на коже. Однако в некоторых обществах было принято отрубать мизинцы или выбивать клыки[20]. Нам неизвестно, какую метку и каким образом получила старикова дочь, но она выжила и вернулась домой, а значит, инициацию прошла успешно.
В свете всего этого образ старухи уже не выглядит таким зловещим. Мачеха просто понимает, что у падчерицы начались менструации, следовательно, ей необходимо пройти инициацию. После этого девочка будет считаться взрослой, сможет выйти замуж, иметь детей, полноценно участвовать в делах и обрядах рода. Естественно, муж ей не противоречит и покорно везет свою дочь в лес.
Старикова дочь сидит под деревом и начинает замерзать. Позднейшие пересказы делают акцент на том, что она плохо одета, а в северных вариантах сказки девушка и вовсе сидит босой, в одной рубашке без опояска. Она знает, для чего прибыла в лес, поэтому ведет себя правильно: отрицает в себе звериные инстинкты, не пытается согреться, даже подавляет в себе желание взвыть, когда мороз становится сильнее.
По сюжету одной из афанасьевских сказок старик, оставив дочь, набирает в лесу хвороста, но не возвращается к ней, не разводит костра, не пытается ее согреть. Он знает, что его дочь проходит посвящение в люди и потому отправляется домой. Для него, для семьи, рода и общины она временно умерла, ушла в мир мертвых и либо вернется взрослой, либо не вернется вовсе…
Двор с санями. Картина Тита Дворникова. 1900 г.
The National Museum in Warsaw
Почти окоченевшая девушка слышит: «Тепло ли тебе, девица?» – и это не издевательство, а часть ритуала. Ее ответ: «Тепло, Морозушко» – это не ложь и не выражение покорности. Это демонстрация того, что прямо сейчас девушка отвергает инстинкт самосохранения. Словесная формулировка здесь необходима: происходит переход из отроческого состояния во взрослое, после чего человек получит право на слово, которое теперь будет учитываться – на совете племени или общины, в семье, во время ритуальных действий.
Современному человеку сложно понять, к чему такая суровость. Исследование Софьи Агранович показывает, что инициационные испытания, в этом случае морозом, для архаической женщины были своеобразной школой, где она получала знания о существующих в ее обществе табу, в частности о половых запретах и о чувстве стыда. А это не что иное, как зарождавшееся в архаике понятие нравственности, которое закладывалось и воспитывалось через ритуал.
Ритуал позволял прожить и прочувствовать то, что случится при нарушении табу, но что еще невозможно было передать одними словами. В сказке во время беседы с Морозко падчерица «едва дух переводит», «уже окостеневать стала», «чуть-чуть (с трудом. – О. Я.) говорит», но взаимодействует с тем, кто проводит инициацию, правильно – и это спасает ей жизнь. Испытание, заставившее ее застывать от мороза, дало ей понимание страха, которое могло трансформироваться в стыд при неблаговидных действиях. С помощью ритуала инстинктивный страх превращался в иррациональный, чтобы человек испытывал ужас при нарушении табу, а затем – в стыд, привитый обрядом перехода.
Как уже отмечалось выше, постепенно инициацию заменили христианские обряды, но ее отголоски на Русском Севере сохранялись в бытовых деталях. Например, в Вологодской области существовал ритуал первой кудели. Первый клубок ниток, спряденный девочкой из самой грубой кудели, бросали в печь (причем делала это бабушка). Пока клубок горел, девочка должна была сидеть «голым задом» в снегу[21]. Считалось, что такой урок поможет ей хорошо делать свою работу и прясть тонкую нить, то есть вести себя правильно, как того требовало крестьянское сообщество. В печи также сжигали тряпочку-прокладку, которую девочка использовала при своих первых месячных. Саму девочку – либо мать, либо старшие сестры – сажали на снег, и она находилась на холоде, пока ветошь не сгорит полностью[22].
Инициация на морозе нашла отражение в языке. Софья Агранович и Евгений Стефанский доказывают, что слова «стужа» и «стыд» произошли от одного корня. Этимологически однокоренными могут считаться «мороз» и «мерзкий» (в значении «неправильный», то есть отвратительный для человека при знании социальных запретов).
В Рязанской области еще в 1930-е годы на Святки ряженые ходили по избам, где проводили посиделки. Там они щипали девушек, плясали с ними, а перед тем, как отправиться в другие дома, выволакивали во двор тех, что на выданье. Там «деды» задирали девушкам подолы и натирали им снегом между ног. Ряженые воспринимались как предки, а их действия – как часть святочных игр, которые должны обеспечить счастливое замужество. Любая девушка, выведенная таким образом на мороз, испытывала стыд, но подобные манипуляции не считались зазорными[23].
Олег Трубачев сопоставляет глаголы «знобить» (дрожать от холода или простуды) и «зябнуть» (мерзнуть) с существительными «зима» и «зябь» (поле, распаханное с осени для того, чтобы засеять его весной). И все эти понятия он связывает с индоевропейским корнем – gen- – «рождаться», «быть рожденным», «прорастать», «давать ростки». В контексте обряда перехода мы видим второе рождение человека, который уже сам
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34