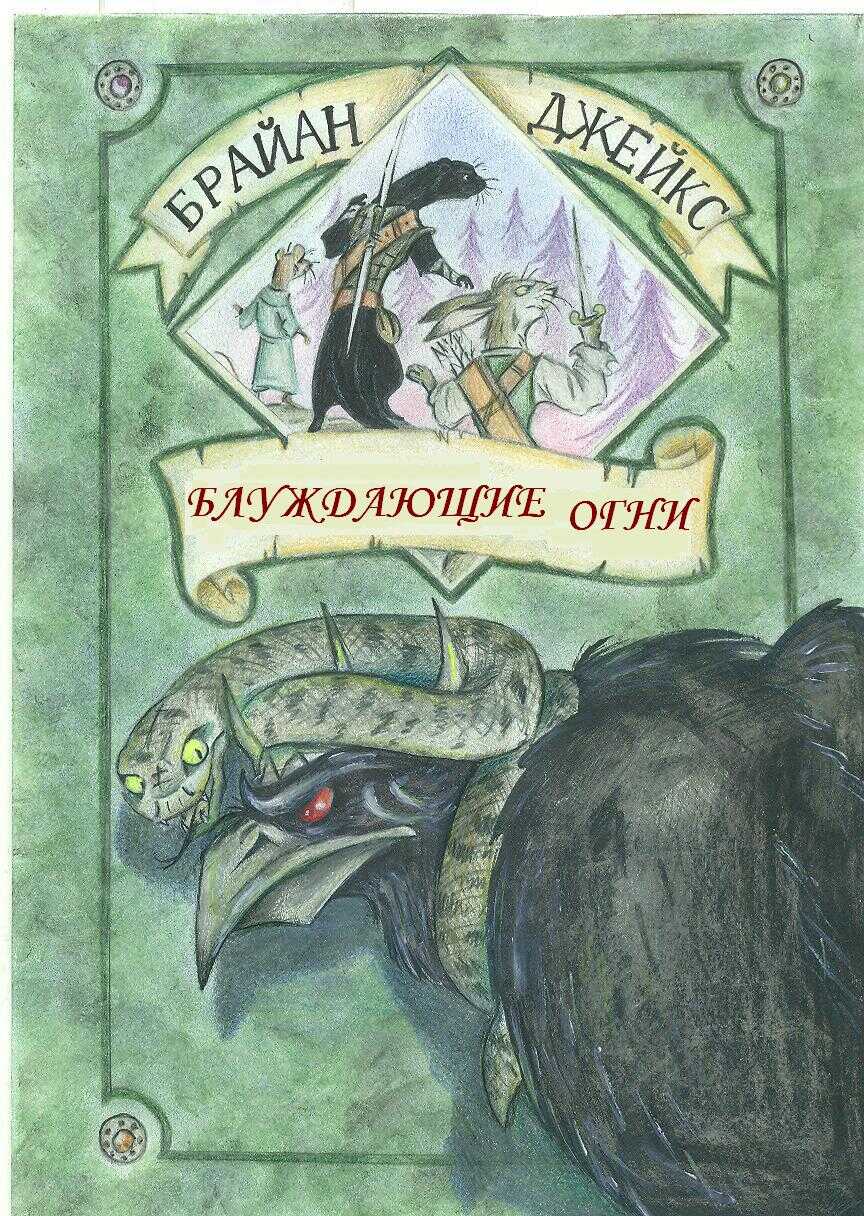Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
готов дать потомство[24].
Можно вспомнить также глагол «колотить», имеющий два значения: «дрожать от сильного озноба» и «бить». Этнографические исследования обычаев Полесья дают такой пример: когда у девочки обнаруживались первые менструации, мать ее обязательно била. Это пережиток инициации – обычай, при котором старшая женщина причиняет боль младшей, после того как та достигает полового созревания. Само действие сохранилось, а вот смысл его уже давно был утрачен[25].
Сказка «Морозко» интересна уже тем, что мы видим в ней сразу несколько женских инициаций: две, а иногда три девушки пытаются стать полноценными членами своего общества, но проходит обряд только одна из них. Мачехина дочка (либо две дочки, как в другом сюжете) погибает. Причина кроется в том, что во время испытания она ведет себя неправильно: хлопает руками, чтобы согреться; пускается в неподобающие месту и случаю разговоры, что считалось недопустимым.
В смягченных пересказах сюжета никто не погибает. Старикова дочь получает богатое приданое, то есть возможность хорошо выйти замуж, а старухина – антиприданое и осмеяние, то есть знак, что хорошего брака ей ожидать не стоит.
Аллегория зимы. Картина Леона Камира Кауфмана.
The National Museum in Warsaw
Что за приданое получает падчерица? По сути, ни в одной архаической культуре никто, пройдя инициацию, не получал материальное приданое. Они обретали право на брак. Именно на это указывает тявканье собачки: «Старикова дочь в злате-серебре едет, а старухину дочь никто замуж не берет». Первая девушка получила право на брак, а старухина, еще не пройдя посвящение, выйти замуж не может.
Со временем порядки изменились: теперь у девушки с большим материальным приданым повышались шансы удачно выйти замуж. В крестьянской среде под этим подразумевался брак с молодым человеком и крепким хозяином, а неудачей считалось соединить жизнь, к примеру, с больным или вдовцом. Под влиянием этого изначальный сюжет изменился. Падчерица получает уже богатые дары от Морозко: сундуки с добром, коней и прочее.
Игры со смертью
В схожей с «Морозко» сказке «Дочь и падчерица» сводные сестры по очереди попадают в некую землянку, где должны прясть. Но ночью туда приходит медведь и предлагает поиграть с ним в жмурки. Для героинь это была игра с самой смертью. В сказке остался отголосок ритуала, чей исход предсказать было невозможно.
До наших дней дошел безопасный вариант жмурок: одному человеку завязывают глаза и он, ориентируясь на звук, ловит в комнате других участников. Само же действие известно человечеству с первобытных времен, когда оно еще не было детской игрой, как и многие другие.
Прятки символизировали детско-подростковый период (в крестьянской среде имелся в виду возраст 7–12 лет) и проводились с Благовещения до Пасхи. Их можно сравнить с инициальным состоянием «слепых неофитов», когда ведущий и игроки не видят друг друга. Жмурки, в свою очередь, символизировали совершеннолетие, и играли в них с Пасхи до Дня апостолов Петра и Павла. Среди играющих были незрячий ведущий, изображающий умершего предка, и остальные, которые его видят. Но тот, кто попался в руки ведущего, переходил в разряд символических покойников: он приобщался к миру предков, то есть таким образом проходил возрастную инициацию. Стоит также заметить, что в жмурки играли не только во дворе или в доме, но и на погосте, что считалось вполне уместным. В разгар лета начиналась игра в горелки (разновидность догонялок), которая свидетельствовала о половой зрелости участников и их готовности вступить в брачные отношения.
Дети играют в прятки. Гравюра Жана-Оноре Фрагонара. 1881 г.
Wellcome Collection
В некоторых вариантах истории девушки в лесной избушке варят медведю кашу, и это не бытовая деталь. Момент, когда девушка обнаруживает в узелке с провизией пепел вместо муки, а вместо крупы – опилки, демонстрирует вовсе не издевательство мачехи. На самом деле он восходил к запрету вкушать пищу во время посвящения. И действительно, мачехина дочка, у которой еда была настоящей, инициацию не прошла.
Приготовление каши по приказу медведя, когда девушка сначала толчет просо, а потом варит его, присутствует в разных сказках и, по мнению Татьяны Александровны Бернштам (1935–2008), имеет глубокий символический смысл. Его можно истолковать по игровой культуре восточных славян.
Толчение проса – это символ зарождения жизни; в «Просо сеяли» девичьи группы играли с Благовещения и до Троицы (или до Рождества пророка Иоанна Предтечи), как бы воспроизводя собственное рождение и рост. Игра была частью аграрной магии, и ее воспринимали всерьез, ведь она представлялась особой силой, способной дать жизнь побегам и росткам.
С летнего солнцестояния начинались обряды «поспевания», когда выращенное просо наливалось, зрело. Девушки собирали во всех дворах деревни крупу (рожь, просо), толкли ее, потом варили кашу, обходили с ней поля, что должно было стать порукой хорошего урожая, а затем угощали ею парней. «Кашей» в свадебных обрядах называли проводы молодых на постель: их кормили пересоленной масляной кашей, а горшок, в котором она готовилась, разбивали о печку, говоря: «Сколько черепков, столько и детушек».
То, что героиня толкла просо и варила кашу в лесной избушке, свидетельствует о достижении ею половой зрелости и готовности к роли жены и будущей матери. То, что в подобных условиях проходила инициация, может подтвердить песня, записанная в Курской губернии:
У меня, молоденькой, мати не родна,
Мати не родна, мачеха злая.
Шлет меня мати в темные лесы,
В темные лесы, в пустую-то избу,
В пустую-то избу сыру рожь молотити.
А я сито смолола – куры не пели,
Я другое смолола – куры не пели,
А я третье смолола – куры не пели…
Как идет ко мне мати черна, велика,
Черна, велика, косматые ноги,
Косматые ноги, железные роги,
Нос окованный, хвост оторванный…[26]
Приготовив кашу, девушка не ест ее, соблюдая табу на прием пищи, но по просьбе мышки кормит ее, даже если это вызывает гнев медведя. Момент кормления мыши часто встречается и в сказках, где девушка попадает в избушку Бабы Яги: там мышка учит ее, что делать дальше. А в случае с медведем даже заменяет ее во время опасной игры: бегает с колокольчиком, уворачиваясь от бросаемых в нее предметов.
От Мороза к Бабе Яге
Сказка, будучи элементом культуры, никогда не говорит об инициации напрямую. Все действия героев она объясняет через восприятие человека позднейших веков: козни злой мачехи, безволие старика, доброту главной героини, лень и грубость мачехиной дочери. Архаическое понимание сказки размывается, на сюжет наслаиваются элементы нового исторического и социального контекста.
В XVIII веке сказки обрели мораль, а в XIX веке появились авторские педагогические сказки, например «Мороз Иванович» Владимира Одоевского (1804–1869), основанная на сюжете «Морозко». У его героинь говорящие имена: Рукодельница и Ленивица. Соответственно, первая добра, послушна и трудолюбива, чего нельзя сказать о ее сестре, обладающей противоположными качествами. Живут девочки с нянюшкой, и та, хотя знает о характере каждой из них, все-таки отправляет Рукодельницу доставать утопленное ведерко из колодца. Благодаря своим трудам у Мороза Ивановича она получает в награду «пятачки и брильянтик для косыночки». Ленивица же, не прослужив у старика положенного времени, получает не награду, а насмешку – растаявшие дома дары.
У Одоевского еще упомянуты колодец, служба в чужом доме, окостеневшие от холода пальцы Рукодельницы, но все позитивные перемены объясняются послушанием, доброжелательностью и стремлением помочь другим, а негативные – ленью, капризами, грубостью и высокомерием.
Мороз Иванович перешагнул страницы детских книг и превратился в доброго Дедушку Мороза, без которого в наши дни немыслимы новогодние праздники. Впрочем, в зимние каникулы которое десятилетие идет фильм «Морозко» (1964), где женский сказочный сюжет отошел на второй план, уступив место «перевоспитанию» мужского персонажа.
Взаимодействие с батюшкой Морозушкой через обряд у крестьян сохранялось до начала ХХ века. Перед Рождеством старший мужчина в семье выходил на порог – или выглядывал в волоковое окно, если изба была курной, – и предлагал Морозу кисель или кутью, приговаривая: «Мороз, Мороз, приходи кисель
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34