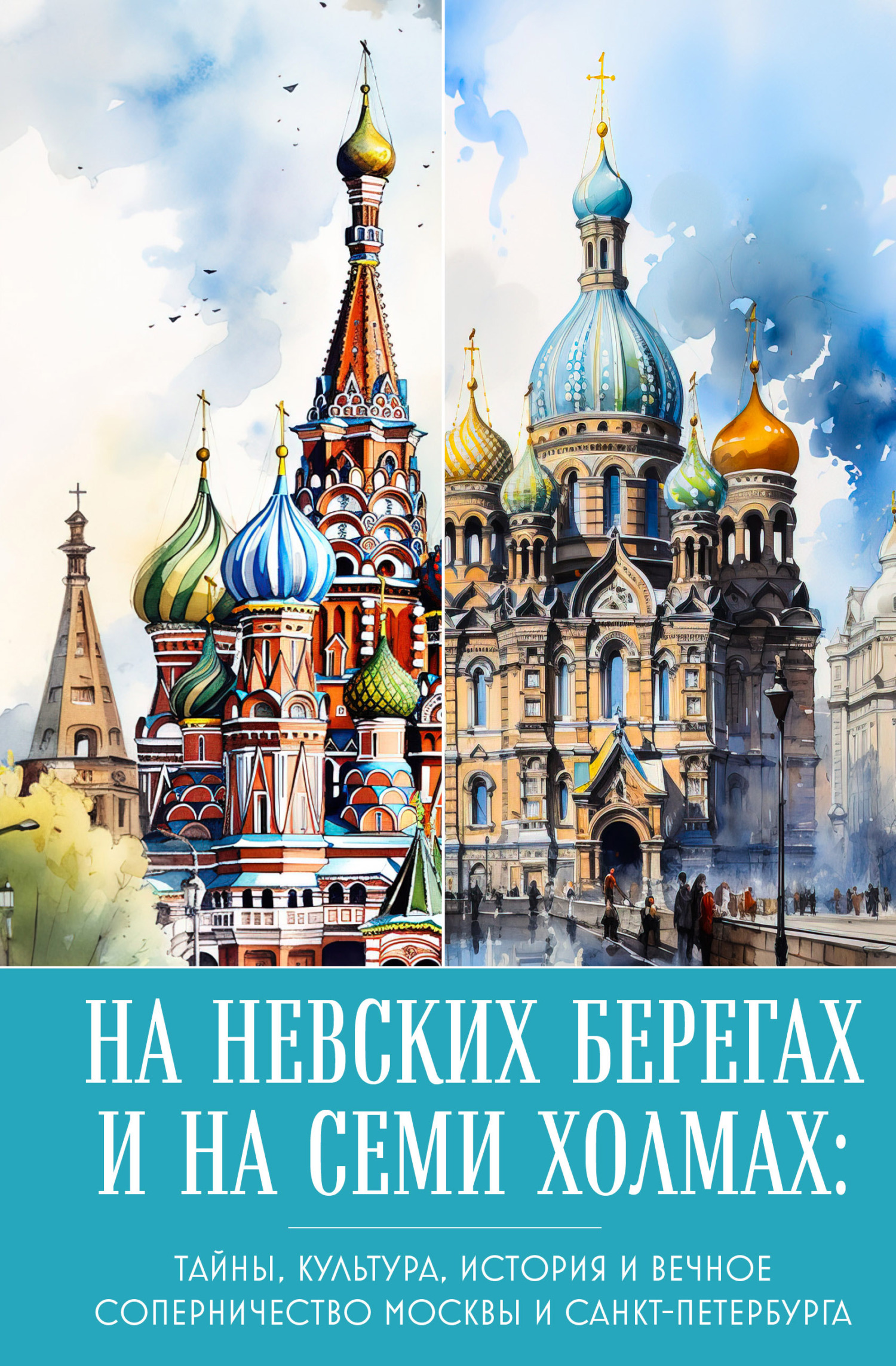на картах первой половины XVIII и даже начала XIX века отмечена церковь Св. Екатерины, а кладбище — нет. Да и сами старые карты не идеально точные, поэтому понять, где именно находилась церковь, проблематично. Позднее, уже в XIX веке, церковь вообще «переехала» из довольно глухого угла на оживленный Петергофский (теперь — Старо-Петергофский) проспект: в 1830-е годы там была возведена новая церковь Св. Екатерины по проекту К. А. Тона.
Можно было бы подумать, что кладбища и вовсе не существовало, но оно упоминается в официальном документе: указе императрицы Елизаветы Петровны от 10 апреля 1746 года, где говорится о требовании засыпать Калинкинское кладбище землей, «чтоб от того духу происходить не могло»[28], так как бытовало мнение, что трупные запахи вызывают болезни. Раз кладбище закрывают, значит, оно точно было! Это подтверждают и многочисленные упоминания Калинкинского кладбища в справочнике «Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии»: в первом томе говорится сразу о двух кладбищах в Екатерингофе (православном и иноверческом — лютеранском) недалеко от церкви Св. Екатерины на 1720-е годы, а в пятом дается описание некрополя — на тот период, когда он был закрыт распоряжением императрицы.
Верить описанию без оглядки не стоит, так как автор рассуждает о событиях, произошедших за сто лет до него, но взглянуть интересно — это дает представление о кладбищах середины XVIII века (или о том, какими их представляли во второй половине XIX века):
Раз во время проезда в Екатерингоф мимо тамошнего кладбища императрица обратила на него особенное внимание, и оно ей очень не понравилось. Действительно, картина была непривлекательна. Памятников на кладбище не было. Кое-где разбросано было несколько каменных плит, мало заметных для проезжающего мимо кладбища. Могилы обозначались только небольшими земляными насыпями и простыми деревянными крестами. Кресты большею частию стояли полуистлевшие, полуразрушенные, насыпи на свежих могилах, от таяния снега и смерзшейся зимою земли, проваливались. О каком-нибудь порядке и речи не было. Все это произвело на императрицу очень грустное впечатление[29].
Это «грустное впечатление» якобы и повлияло на решение Елизаветы Петровны закрыть Калинкинское кладбище. После такого очень любопытно читать седьмой том того же справочника, где автор сомневается в существовании Калинкинского кладбища, но указывает, что местные жители кладбище помнят, а до 1830-х годов еще можно было увидеть надгробия.
Было еще одно кладбище, оставившее «грустное впечатление» у императрицы Елизаветы, — Вознесенское. Оно находилось у церкви Вознесения Господня, заложенной в 1728 году в Переведенской слободе, где с петровских времен расселяли переведенных (отсюда и название) из разных местностей рабочих Адмиралтейства.
После освящения церкви последовало распоряжение: «…при оной церкви быть погребению мертвых телес, понеже та церковь состоит от жилья не в близости, и погребать те телеса на порозжих местах…»[30] Позднее хоронить стали не только вокруг церкви, но и через дорогу — этот участок отображен на плане Трускотта 1753 года.
В 1732 году в указе Анны Иоанновны и в 1734 году в указе Синода Вознесенское кладбище упоминается как действующее, однако в конце 1730-х из-за подступившей к кладбищу застройки императрица повелела его закрыть. Правда, этого не случилось: например, в 1742 году «…позволено было… Алексею Казакову… погребсти дочь его… при Вознесенской церкви»[31], то есть захоронения продолжались. Именно эта ситуация (действующее кладбище рядом с городской застройкой) и была отражена на плане Трускотта.
Вторая попытка закрыть некрополь имела место в 1746 году и была связана с уже знакомой нам Елизаветой Петровной. Вознесенское кладбище, на пару с Калинкиным, о котором мы говорили выше, огорчило (если верить городским легендам — напугало) ее, за чем последовал указ, закрывающий и Вознесенское, и Калинкинское кладбища и повелевающий их засыпать землей. Но и этот указ не был выполнен, и в 1760-е годы в газетах публиковались объявления о поиске тех, кто будет готов исполнить указ императрицы.
План Трускотта, 1753.
Wikimedia Commons
Вероятно, после 1770-х на Вознесенском кладбище уже не хоронили, и в конце XVIII — начале XIX века его участок через дорогу от церкви был застроен жилыми домами. Кажется, это единственный прецедент столь основательной дореволюционной застройки кладбища. К началу XIX века надгробия остались только у церкви, но до XX века не дожили и они.
У жителей Московской стороны (за Николаевским, сейчас Московским, вокзалом) тоже было собственное кладбище — Ямское, открытое по распоряжению царя в 1719 году. Оно находилось на пересечении нынешнего Лиговского проспекта с Обводным каналом, рядом с церковью Рождества Иоанна Предтечи, построенной в том же 1719 году. Эта церковь — а точнее, отстроенная заново в 1740-е годы — сохранилась на том же месте.
Почему у кладбища такое говорящее название? Правда, с могильными ямами оно никак не связано. Все дело в том, что эта местность с петровских времен была заселена ямщиками — так называли кучеров, перевозчиков грузов, поэтому и кладбище в их слободе стало так называться.
Захоронения на Ямском кладбище производились и до официального открытия — в 1710 году, как пишет священник С. Опатович, там был погребен сын А. Д. Меншикова[32]. В 1732 году на кладбище было разрешено хоронить только людей из прихода, чтобы сократить численность погребенных — из-за низменности мест и близости к воде, — а в 1756 году был издан указ о закрытии некрополя с разрешением хоронить только знатных людей. На кладбище продолжали хоронить до 1770-х.
В 1747 году на Ямском кладбище произошло любопытное: на паперть церкви Рождества Иоанна Предтечи принесли покойника… и оставили его там. Судя по реакции, это никому не понравилось: сохранился документ «О введении дневной ночной караульной службы на кладбищах», где было решено, что «…при тех церквях, при которых мертвые погребаются» нужна охрана, «…чтобы мертвых тел тайным образом приносимых не было»[33].
После закрытия кладбища его территория была частично застроена церковными сооружениями, а частично — отчуждена за церковную ограду: при строительстве Обводного канала (вероятно, в начале XIX века) находили человеческие скелеты. В 1880-е площадь церковной ограды (больше 3 га) называлась у местных жителей «погостом, на память о бывшем здесь кладбище»[34]. «Ограда» также использовалась как место для народных гуляний перед Троицей, а в день рождества Иоанна Предтечи там проводились «народные собрания», подобные тем, что проходили на других городских кладбищах в храмовые праздники (то есть в день памяти того святого, которому был посвящен кладбищенский храм).
Сохранилось ли что-то от кладбища: могилы, надгробия? В 1860-е встречается упоминание о могильном