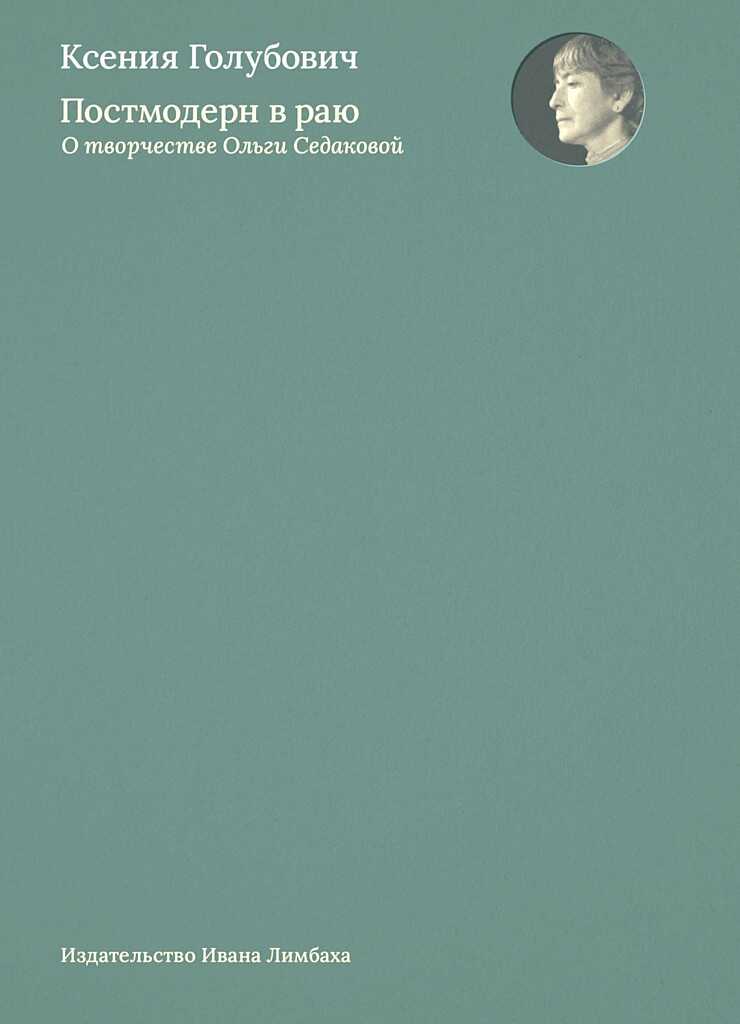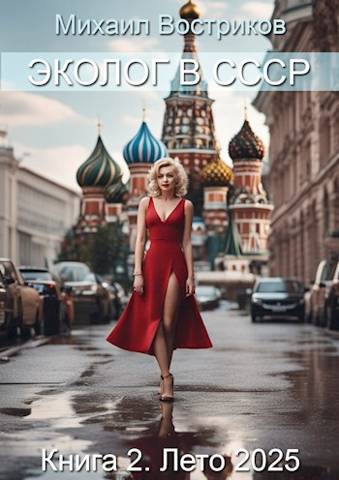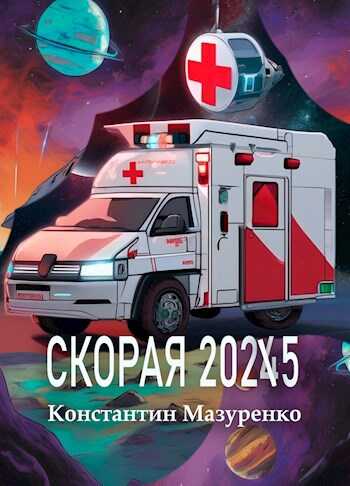приснятся в смертном сне. Я теперь вижу эти сны, мир, который приходит после смерти… Быть может, я теперь вижу сны, которые приходят ко мне после смерти Джо. Каждый день я встаю и пишу. 1800 слов. Чуть больше, чуть меньше, в стихии английского языка, в котором больше нет Джо. Или в котором есть только Джо, потому что это и есть то, что мне осталось от него, – на каждом повороте, на каждом выборе слова, в каждой вибрации. А потом я продолжаю на русском.
Рождество 2022
Сербские притчи
Часть первая. Оптики
(А) Книга зрений
1. Приезд
Белград. Лето 2002. Он встретил меня тускло и подслеповато. На выезде из аэропорта запыленными пальмами и запыленными рекламными щитами он казался похожим на Сочи и Гагры. Совсем не яркий, совсем не походящий на картинку из иллюстрированного журнала c ее чистотой и гигиеничностью, с ее выработанными параметрами идеального существования, на которые так или иначе пытается претендовать любой европеизированный город, Белград представлял собой тяжеловатое, полудепрессивное зрелище. Отличие его от Москвы бросилось в глаза как скорее нечто курортное и более советское. Те же долго раскрывающиеся спальные районы из тех же белых сутулых домов вдоль длинного, ничем не приукрашенного шоссе, то же какое-то бесхозное небо, точно пустырь, оставленное над городом, то же мелькание людей с их не слишком манящими причинами идти туда, куда они идут.
Да, по контрасту видно, что Москва теперь менее «советская». В дни перед отъездом моим из Москвы стояла ясная летняя погода. То ли от перемены участи, то ли климата, италийский свет был разлит по московским улицам, золото крестов и белизна свежеотремонтированных храмов горели на солнце, но даже давно не крашенные рамы старых домов казались какими-то четко белыми, а трещины – особыми виньетками, дополнительными украшениями на поверхности города. Все бушевало в цвете и свете, в этом буйстве любая лужа и выбоина оказывались на своем месте – средством дополнительной экспрессии, и это редкое зрительное удовольствие казалось достижением, венцом последних лет. Оно как-то соответствовало ярким рекламным щитам, витринам магазинов с четкими, до стежка прошитыми мужскими костюмами и женскими платьями.
Казалось, проходит та тоска, что вызывается бесконечно отсроченным обещанием красивой жизни, которая, точно зверь в зоопарке, всегда находится у нас за границей – за границей рекламных щитов, журнальных страниц, витрин, затемненных машинных стекол, ТВ– и киноэкранов, словно она не в силах пролиться сюда вовнутрь, и мы ждем и ждем и смотрим на нее как завороженные. Этим летом, казалось, эта особая яркая зрелищность наконец выходит, начинает разливаться, как вода, по всей Москве, и мы скользим в ней, как жители новых, виртуальных пространств.
При первом же взгляде Белград вернул меня обратно в глубину, за Тверскую улицу, в малоухоженные переулки, в тусклые их дни, к подслеповатым окнам, к трещинам на асфальте, в провинцию, где еще блекнут старые транспаранты. Словно большая кинокамера, машина моего отца показывала и мне тусклый летний день, прохожих, пустыри, темноватые здания, бесцельно широкие просторы. И только сама машина – «мерседес», – обращавший на себя внимание прохожих, был той легкой гранью, тем оптическим устройством, что отделяло меня от того, что проплывало за окном.
«Здесь была война, – говорит мне отец, точно закадровый голос, – здесь десять лет ничего не ремонтировали, не красили, у вас в Москве сейчас хорошо сделали. Но скоро все тут будет строиться заново, не хуже, чем в Москве».
Мне как-то неприятно, что мое разочарование им даже предугадывается.
2. Годар
Что такое «советское», в действительности трудно выразить. Это едва уловимое, но всем понятное качество, кажется, проявилось в одном фильме Годара. На рыжеватой, почти бесцветной пленке, куда иногда вторгается механический закадровый голос, чтобы сообщить время и повторить: «Качество – советское», человек в ожидании между самолетами в каком-то будущем должен заняться сексом. Это – почти обязательная услуга для тех, чьи рейсы запаздывают. Но ради экономии сил персонала реестр услуг раскладывается надвое: с одними ты занимаешься сексом, с другими – разговариваешь. Ни одно из двух не подходит герою, но, отказавшись от молчаливого секса с одной из женщин, с другой – романтической героиней в белом, с которой разрешается только разговаривать, герой, в рамках отведенного, решает говорить губы в губы. Получается разговор, не слышимый никому, кроме двух, не подлежащий воспроизведению, середина между сексом и словом, неуловимая свобода действий – поцелуй. И кинокартинка преображается, – появляется правильно поставленный цвет, свет, глубина, появляется фокус, и тогда закадровый голос снова сообщает время и теперь добавляет: «Качество – европейское».
Визуальность, устроенная согласно европейскому глазу – можно заключить из Годара,– происходит из парадоксального слияния слов и тел, в котором избегается их двойная, взаимная непрерывность, все как по швам раскраивается и центрируется вокруг одной точки: самого смотрящего глаза. Поэтому на Западе «они» и умеют создавать «виды», «ландшафты». В западном взгляде, который любая бабушка-билетерша узнает за несколько шагов, едва сама попадает в его поле зрения, как там ни оденься иностранец, всегда прочтешь: это я сюда вошел, это я вижу, а дальше: вижу что? – то, что сам же и устанавливаю в отношении себя: это – «картина», это – «бабушка-билетерша». Сколь бы несомненным, самодостаточным, объективно существующим ни было это пространство, оно существует так, чтобы быть в охват индивидуального взгляда. В «советском» же – взгляд размазан, точно человек куда-то попал и никак и нигде не может найти точку опоры, не может найти, что же ему, собственно, видно. Картина? А о чем она, а понимаю ли я, а могу ли вообще тут рядом с нею находиться, а не лучше ли икона, чем картина, но, чтобы понять икону, надо ведь и жить-то по-другому… эх… Бесконечная даль интерпретации наваливается на русского так, словно каждый объект что-то от него требует и никак ему не дается. Вещи свалены в ком, а слова – предельно идеологизированы, общи и не нуждаются ни в чем материальном. Человек полон мнений и суждений, а жизнь вокруг него – глухой тяжести. Индивидуальной встречи одного с другим не происходит. А потому не рождается ни цвета, ни света, ни объема, ни глубины. Что говорить, европейское пространство гораздо молчаливее нашего: за «нас» в Европе говорит обустроенный нами мир, «мы» можем и помолчать.
3. У магазинчика
Между тем отец мягко поворачивает в узкую улочку, где на углу здание облепил, как