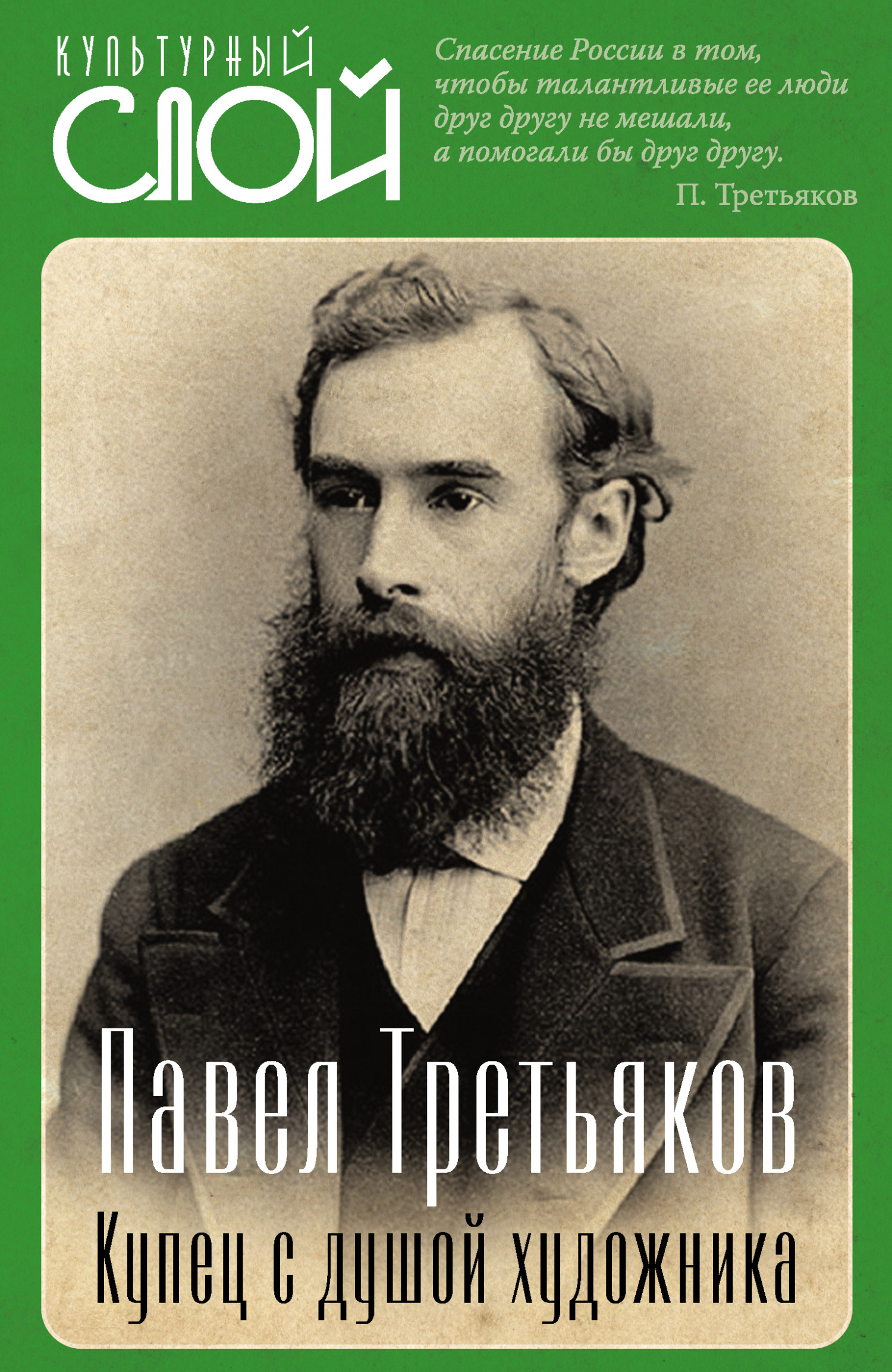Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
Именно в формализме этом обвинял конец Кватроченто и Филиппино Липпи Дворжак, чему многие историки искусства продолжают вторить, определив этот период как détente, «ослабление», особенно характерное именно для медичийской школы.
* * *
Благовещение и Вознесение у Филиппино Липпи, однако, не два сюжета, а один.
«Благовещение» заключено в громоздкое обрамление all’antica с маскаронами, канделябрами и херувимами: в сущности, это дом Богоматери в Назарете, Святая Хижина, Santa Casa, где Благовещение произошло и где потом рос и воспитывался Иисус. Дом этот спасли ангелы от сарацин, и, после долгих странствий, он опустился в самый центр города Лорето близ Анконы, где и стоит по сей день. В конце XV века культ Santa Casa в Лорето переживал очередной бум, было выпущено несколько папских булл, подтверждающих его подлинность, а вокруг хижины началось строительство великолепного мраморного ренессансного футляра. Об этом говорила вся Италия, так что Филиппино Липпи, приземлив свое «Благовещение» с его тяжелой рамой прямо в центр красивого и занимательного пейзажа, полного причудливых гор, замков и всевозможной символики, мог учитывать аналогию, возникающую со Святой Хижиной. У Филиппино Липпи святыня пропутешествовала не только в пространстве, но и во времени. Находясь в ней, Дева, совсем еще юная, приземлилась ровно на то место, где стоит саркофаг, в коем Она упокоилась, причем ровно в тот момент, когда вокруг него собрались апостолы, дабы поразмышлять о Ее смерти.
Филиппино Липпи. Алтарный образ «Благовещение» © Wikimedia Commons
Одиннадцать учеников Иисуса как раз открыли саркофаг, к коему устремились под влиянием слов апостола Фомы, подкрепившего их демонстрацией пояса, и обнаружили, что он пуст. Тут они уразумели, что Дева вознеслась, причем не только духом, но и плотью, которая, как оказалось, столь же безгрешна у Матери, сколь и у Сына. Уразумение тут же вызвало озарение, и апостолы духовным взором в небесах узрели Деву, о чем свидетельствуют их взгляды, вверх устремленные, и сопровождающая взгляды жестикуляция. Богоматерь, окруженная танцующими и музицирующими ангелами, предстала перед ними как Regina Coeli, Царица Небесная, с сиянием вокруг головы и заключенная в мандорлу, но босая. На апостолов снизошло сразу два чуда, но небесное видение их столь увлекло, что ничто на земле оторвать от него их не может. Приземлившаяся Святая Хижина осталась незамеченной, хотя она, норовившая втиснуться прямо в саркофаг, но в него не поместившись, просто-напросто сдвинула его в сторону, как это ясно видно на фреске. Чтобы не обратить никакого внимания на опустившийся дом, надо уж совсем голову потерять, но апостолов можно понять: поющие и пляшущие ангелы в голубом небе вокруг Марии столь же эффектны, как панно «Танец» и «Музыка» Матисса.
Специально для того, чтобы зритель понял происходящее, у дома из Назарета, как в кинематографе, срезана стена: по замыслу Филиппино фреска и алтарный образ являются единым текстом, а не двумя разными повествованиями. На единство «Благовещения» и «Вознесения» указывают и фигурки ангелочков, усевшихся на карниз обрамления алтарной картины и на капители пилястр по бокам фрески. Божественные такелажники, устанавливающие Святую Хижину с помощью лент, натянутых как тросы.
Фреска представляет внешнее действие, картина – внутреннее; внешний мир полон динамики, внутренний – спокоен. Оба мира связывает фигура Божественного вестника: полет архангела Гавриила, заставляющий клубиться складки его одежд, вносит в «Благовещение» движение, но оно тут же гасится его скрещенными на груди руками с торчащей из них вверх лилией.
Филиппино Липпи. «Вознесение Богоматери» (фрагмент) © Wikimedia Commons
Совмещение двух сюжетов на главной стене было определено программой, написанной точно неизвестно кем, но без сомнения одобренной самим Оливьеро Карафой. Зачем это сделано? Новшество в иконографической схеме обусловлено жаркими спорами вокруг Девы Марии, разгоревшимися как раз в конце Кватроченто. Первые христиане называли церковь Ecclesia и уподобляли Телу Христову. По мере развития и укрепления папства западная церковь все более отождествляла себя с Богородицей. Это вело к свойственному католицизму усилению значения и самостоятельности Марии, причем к поклонению в первую очередь Деве, а не Богоматери, как в православии. Самая популярная католическая молитва обращена к Марии и называется Ave Maria. Православный вариант, «Богородице, Дево, радуйся», практически ему идентичен. Оба варианта связаны с Благовещением и основаны на словах Евангелия от Луки, описывающих это событие: «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1: 28). Однако текст главной католической молитвы: «Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь» – обращен к Марии. Православной: «Богородице Дево, радуйя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – к Богородице. Католики просят Деву Марию молиться за них в час смерти, тем самым подчеркивая Ее активность и значимость в избавлении человека от греха, православные же славят чрево Ее, родившее Спаса, тем самым означая не то чтобы второстепенную, но пассивную роль Марии в спасении и обретении Царства Небесного.
* * *
Как уже говорилось, монастырь Санта Мария ин Кампо Марцио хранил мощи Григория Богослова, основоположника мариологии. В XV веке они были перенесены в церковь Санта Мария сопра Минерва после окончания ее строительства. Развитие в католицизме культа Девы Марии привело к утверждению о том, что Она была свободна от первородного греха. Концепция о Непорочном зачатии Девы Марии получила название Immaculata conceptio (immaculata на латыни дословно значит «незапятнанная»). Огромную роль в ее становлении сыграл Иоанн Дунс Скот, получивший почетное звание Doctor Marianus, что значит «Специалист по Марии». Он наметил все главные проблемы католической мариологии, в том числе обосновал и Immaculata conceptio, утверждая, что родители Марии, Иоаким и Анна, не совершили плотского греха. Одним из доказательств являлось то, что Мария была взята на небеса душой и телом, ибо, если бы плоть ее была грешна, она бы не могла пребывать в раю. Споры о Непорочном зачатии Девы Марии начались в раннем христианстве и длились на протяжении всей его истории. Католицизм окончательно признал безгрешность плоти Девы Марии истиной совсем недавно, в XIX веке, утвердив буллой Пия IX под названием Ineffabilis Deus, «Боже неописуемый», выпущенной 8 декабря 1854 года: «Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113