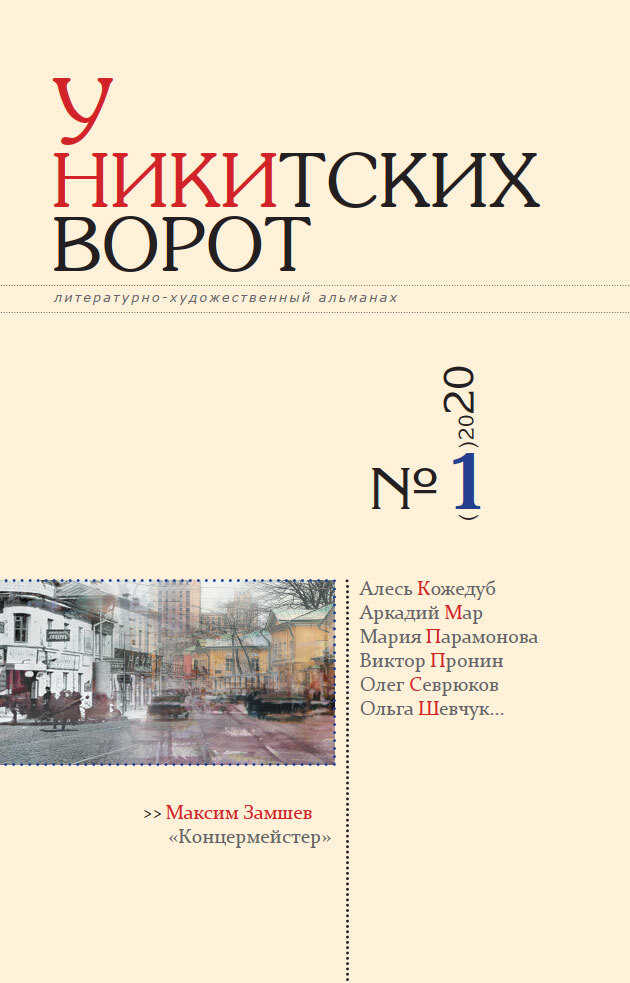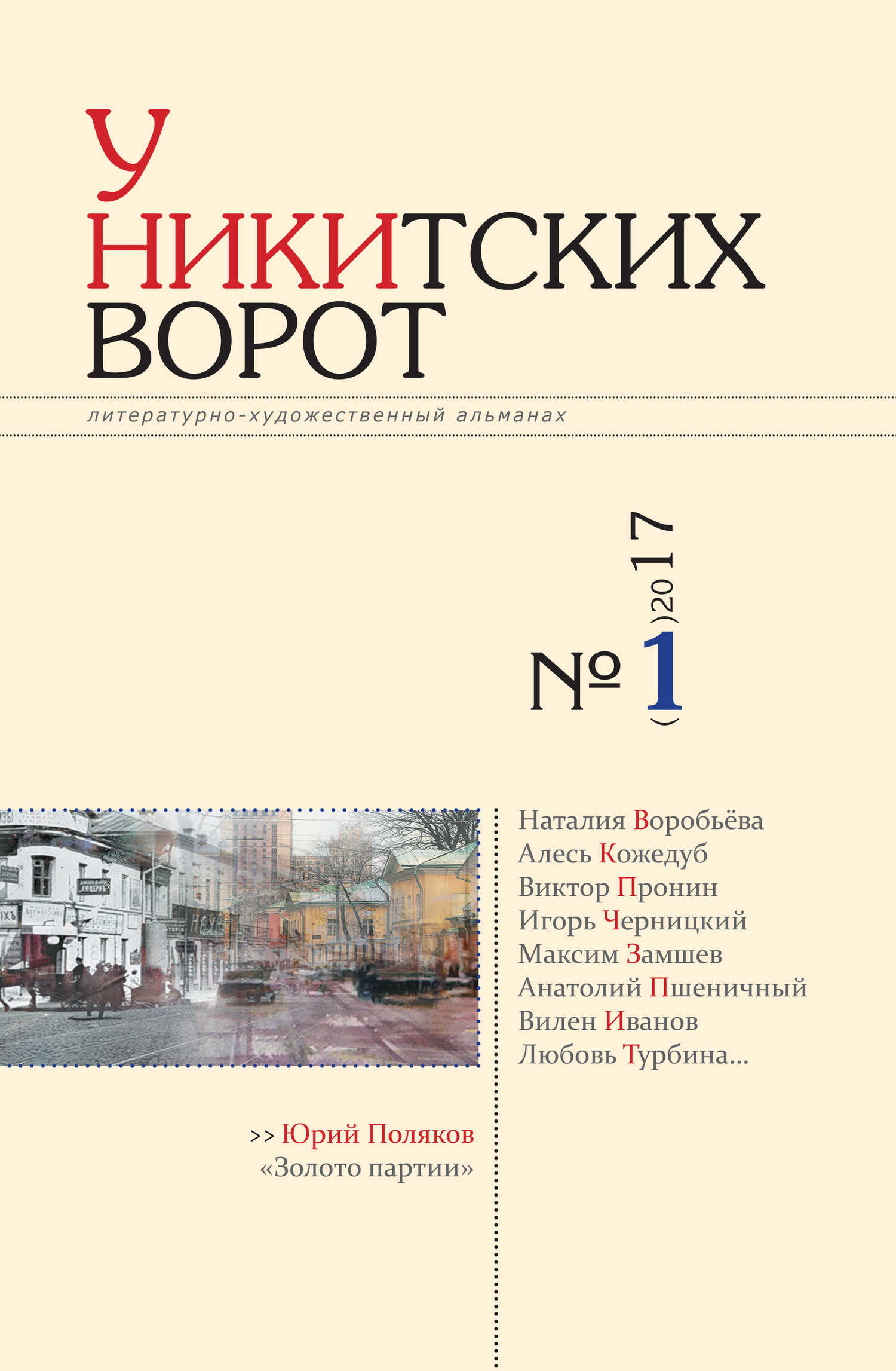и слабый, обхватил его руками и довёл до своей квартиры.
Он умер через день. И никто не узнал, что в одном из холодных ленинградских домов его ждала та, к которой он шёл.
…Она осталась чудом жива. И долго жила после него, тоскуя о нём и свято веря в рассказанное Прустом некое кельтское поверье, по которому душа ушедшего вселялась то ли в дерево, то ли в цветок, то ли в какую-то красивую вещицу. И если мы оказываемся рядом, mom, кто ушёл от нас, это чувствует и зовёт нас. Услышав и откликнувшись на зов, мы освобождаем его от смерти.
А иногда он снился ей на прогулке в Летнем саду, окружённый своими знакомыми, друзьями. Был там и Свифт, и Дидро, и Ромен Роллан, и, конечно, Марсель Пруст.
XXX
…Типографский экземпляр «Пленницы», пятой части романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», пропал в блокадном городе. Сохранился только текст, отпечатанный на пишущей машинке.
Беседы о русской культуре
Марк Розовский, Ольга Русецкая
Театр начинается с…
Розовский Марк Григорьевич родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. Советский, затем российский театральный режиссёр, драматург и сценарист, композитор, прозаик, поэт. Народный артист Российской Федерации (2004), художественный руководитель театра «У Никитских ворот». Академик американской Пушкинской академии, член ПЕН-клуба, академик Академии искусств и Академии Эстетики и свободных искусств, дважды «Россиянин года» (2006, 2012).
Русецкая Ольга Алексеевна – писатель, поэт, журналист, театральный критик. Публиковалась не только в России, но и за рубежом: в периодических изданиях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа. Её произведения отмечены литературными наградами. Повесть «Вольному воля», например, возглавила «Золотую десятку» «Русского переплёта». «В каждой русской душе заложено поэтическое начало. Со времён Ломоносова и Державина оно пронизывает всю нашу жизнь», – убеждена она.
Ольга Русецкая: Уважаемый Марк Григорьевич, Ваш театр сегодня один из немногих, достойных интереса и уважения. Репертуар его на удивление разнообразен и богат; актёры – в своём роде уникальные, «синтетические», как Вы сами однажды определили их природу. И об этом, собственно, моя книга. Но сейчас мне хочется поговорить с Вами о театре вообще, об эстетике и этике современного театра. И, если так можно выразиться, об околотеатральном пространстве.
Над Вашим столом в рабочем кабинете в театре висит портрет Станиславского. Этот факт говорит сам за себя. Вы часто бываете в доме-музее Станиславского, водите туда своих актёров. Есть ли моменты в его учении, которым Вы не следуете сегодня? И не потому, что Вы их не принимаете по каким-то принципиальным соображениям, а потому, что не позволяет Вам этого делать современная театральная ситуация.
М. Р. Станиславского приемлю полностью. Вместе с его детскостью, наивностью, некоторым даже занудством и оторванностью от реальной жизни.
Да, у него была исключительная, по-рыцарски возвышенная преданность правдивому Театру, но знание жизни при этом хромало, в борьбе идей он был чужим всякому революционерству и классовым схваткам. Его суть – человеколюбие в мясорубке истории. При этом буржуазность, профессорская внешность и потрясающая русская интеллигентность контрастировали и с эстетством Серебряного века, и, позже, с дурдомом сталинщины. А ведь в ту кровавую эпоху надо было творить, как говорится, здесь и сейчас.
Парадокс истории, впрочем, сознательно подготовленный советской пропагандистской машиной, состоял в том, что Константин Сергеевич был принят в политическую систему и провозглашён культовым вождём театрального искусства нового времени. Размышления и поиски художника оказались объявленными официозными догмами, имя Станиславского канонизировано и получило золотую краску на любой этикетке. Это было невыносимо и когда-нибудь должно было кончиться!..
И – кончилось. По смерти Сталина, с реабилитацией Мейерхольда, с рассвобождением общественного сознания на всех направлениях развития состоялось и возвращение настоящего Станиславского в нашу культуру – без бюрократической накипи, без кликушества и идиотической узости понимания всего и вся, присущих тоталитарному мышлению. Казалось бы, тут-то и могло проявиться наше глубинное выявление фундаментальных ценностей и открытий К. С. Станиславского – в опытах «Современника», в деятельности Г. А. Товстоногова и А. В. Эфроса, прежде всего, это, конечно, очень убедительно произошло! – но в наше время, надо честно признать, как вы изволили выразиться, «современная театральная ситуация» к Станиславскому явно не благоволит.
Учение Станиславского о приматах психологического театра и воспитании для него актёра школы переживания в практике нынешнего повсеместного кривлянья и немотивированного буреполома форм отброшено ко всем чертям. Сегодня мы, за редкими исключениями, имеем на сцене визуальную неразбериху, композиционную непростроенность, фальшивую актёрскую игру, вернее, наигрыш – то есть всё то, с чем боролся Константин Сергеевич. Печально, но факт!
Сегодня о Станиславского вытирают ноги. Кто? Да все, кому не лень. Он – враг № 1. Почему? Да потому, что Станиславский – это профессионализм. Естественно, все, кто профессией в должной мере не владеет – не умеет работать с актёром, сценографом, музыкой, светом, – видят в Станиславском не своего учителя, а своего разоблачителя. Станиславский – это тот самый мальчик андерсеновский, который может сегодня прийти на любой спектакль какого-нибудь модного нынешнего фестиваля и громогласно сказать: «А король-то голый!»
Вот почему Станиславский неудобен сегодняшнему театральному дню. Он раздражает своей дотошностью и въедливостью, своей культурой, ибо несовместим с поверхностностью. Многим хочется, чтобы его вообще не было!.. Устарел!.. Забыть!.. Не знаем такого и знать не хотим! Но есть и другая, я бы сказал, иезуитская форма его почитания. Придумывается, к примеру, «Премия Станиславского» или «Сезоны Станиславского», конфеты «Станиславский» и т. д., и т. п. То есть имеет место лукавое использование «бренда», если не сказать прикрытие, спекуляция торговой маркой. Ведь премируются при этом, демонстрируются и получают поддержку во многих случаях спектакли, от которых Станиславский переворачивается в гробу.
Конечно, Константин Сергеевич был в искусстве своём достаточно разнообразен и широк. Его нельзя подвести под какой-то один-единственный стиль и язык. Он умел и озоровать на сцене, и мыслить свободно. Но это не значит вовсе, что он ПОДПИСАЛСЯ бы сегодня под всякой ерундой и бессмыслицей.
Станиславского следует уметь постичь. Следует овладеть его МЕТОДОМ, который каждому поможет делать СВОЁ. Догмы никому не нужны, но своеволие антихудожественно.
Поэтому, делая свою работу, мы должны поверять её Станиславским, думать, как – соответствуем ли мы его основным требованиям или не соответствуем? Где начинается наша вседозволенность и кончается наша ответственность – перед Автором прежде всего.
Да, театр безграничен в возможностях своего изъявления, он бывает чрезмерен и в своей поэтичности, и в бытовой определённости,