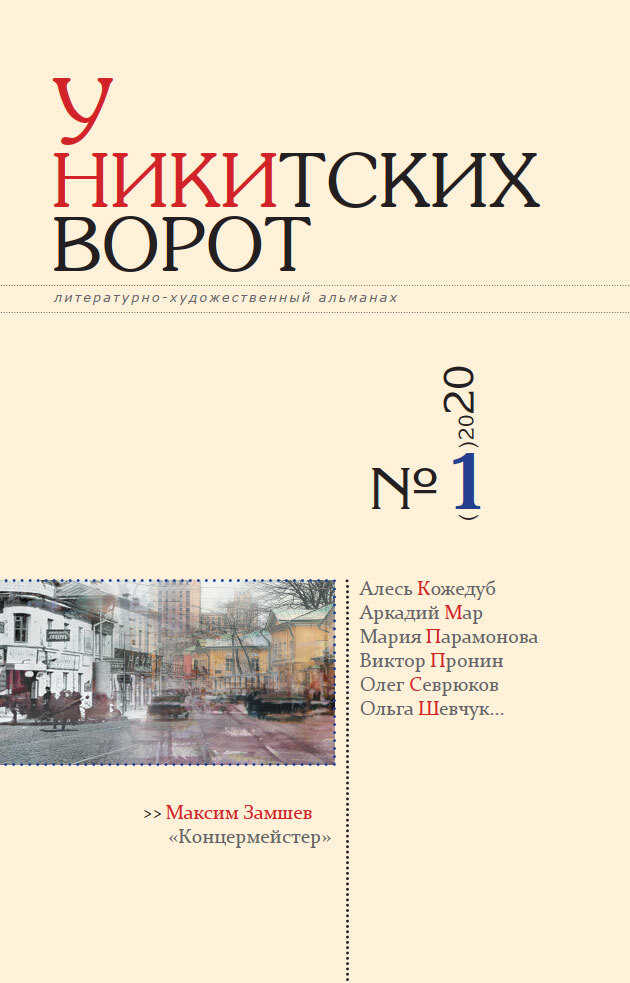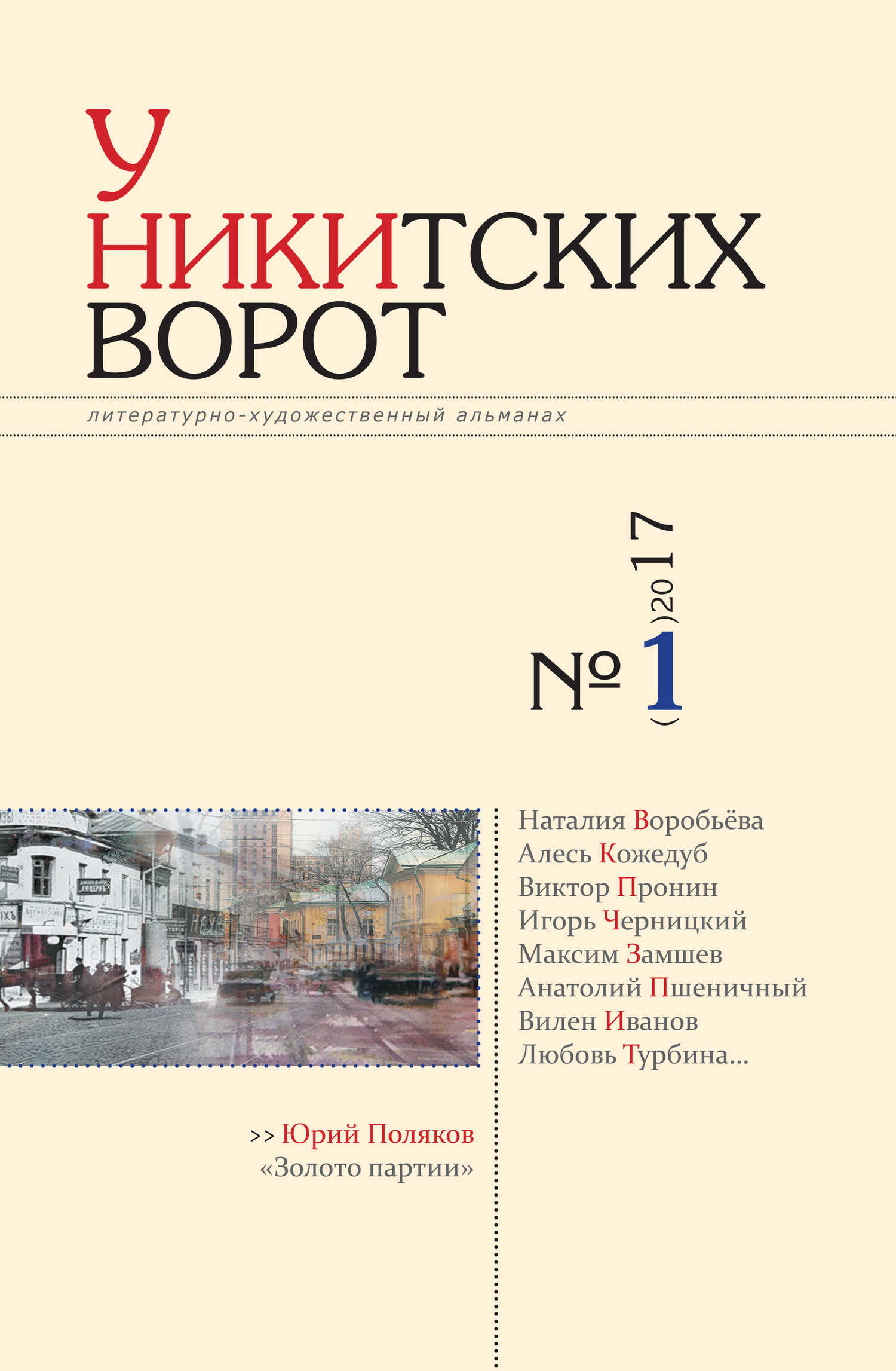был первым исполнителем роли Кости).
Более того, высмеивавший Шекспира за далёкость от реальной жизни Толстой сам становится смешон – из великана и титана превращается в этакого монстра с бородой. Серебряный век выдвигает вперёд совсем другие фигуры, каждая из которых искрит безумными талантами фигляров и игрунов. Андрей Белый и Валерий Брюсов соревнуются каждый в своём образе за право быть первее первого.
То же и в театре. Мейерхольду надо быть лидером, и он заслуженно становится им, его индивидуальность настолько ярка, что никакая гипертрофированность образа ему не грозит, а, наоборот, помогает. Он выглядит титаном, у его ног камешки!
Уйдя из общедоступного МХТ Станиславского и Немировича-Данченко, благодарно приникнув к Чехову, уехав на время в Херсон, чтобы нарастить «режиссёрскую мышцу», Мейерхольд делает абсолютно правильные шаги в своей вступительной фазе, а затем приступает всерьёз к выполнению своей главной жизненной миссии – реформированию театра.
Ставка на условность с опорой на историческую мистериальность, маскарадность и античную мифологизацию, где реальность и фантазия слиты воедино, – это было ново, и это обновление ошарашило театральный мир. Отныне в театре торжествует режиссёрское решение и главным действующим лицом оказывается его Величество Режиссёр – впервые в истории! И не просто режиссёр как должность, а как главный творец – автор спектакля. Так он подписал афишу «Ревизора», так оно было на самом деле. Так оно должно у каждого из нас быть и сейчас, и вовеки веков!
О. Р. После Ваших рассуждений о Станиславском и Мейерхольде становится ясно, откуда, как говорится, Ваши ноги растут. Я имею в виду те первоосновы, которые движут Ваше творчество и, собственно, само дело театра «У Никитских ворот». Теперь мне хотелось бы перейти к теме русской классики на сцене Вашего театра и не только Вашего… Что скажете по этому поводу, Марк Григорьевич? Есть ли сейчас спрос на русскую классику? Способен ли сегодняшний театр держать планку культуры на высоте?
М. Р. Не знаю. «Конец театральной эпохи» занизил эту планку – художники часто работают без макетов, «почеркушки» выдаются за эскизы, актёры – даже самые талантливые – оказываются вовлечёнными в какую-то дьяволиаду, заголяются, матерятся, выглядят беспомощными – ни техники, ни дикции, крик и кривлянье, кривлянье и крик…
Обилие примеров таково, что можно продолжать бесконечно.
Многим кажется, что классику ставят лишь потому, что, мол, новых хороших пьес нет (или мало!) и, дескать, надо заполнять репертуарную нишу. Внешне, может, картина так и выглядит, но на самом деле театр постоянно находит, что ставить, и отнюдь не страдает от отсутствия идей и проектов. Во всяком случае, наш театр, который «У Никитских ворот». Были б деньги – и мы завалим вас новыми выплесками художественной энергии!..
Дело в другом – в умении осуществлять отбор, организовывать чередование премьер, исходя из реальных возможностей труппы и сцены. Вялая театральная политика обрекала бы нас на одиночные выстрелы в пустыне, – нет, не для того дано нам счастье делать что-то своё в бесцензурном пространстве, чтобы сидеть в застойном болоте и копошиться для вида – мы, мол, не в безделье пребываем. Поэтому театр склонен постоянно дерзить, сигналить обществу – я живой, я с вами, не забывайте, что я есть!.. А общество это самое сегодня каково?.. Это существо достаточно ленивое, малоподвижное, если что-то ещё желающее, то прежде всего «пожрать да поржать» – зачем и к чему ему театр, взывающий думать и страдать?.. Такой публике классика, даже самая живая, самая отменно сыгранная и поставленная, на фиг не нужна. Ей все поперёк горла – и Чехов, и Брехт, и Ионеско… Лучше жить в благополучной спячке в обнимку с телевизором и всерьёз верить, что верх искусства – это сериалы про ментов и про разведчиков. Из искусства ушла боль, а без боли нет искусства, нет классики. «Не востребовано» – этот страшный вердикт сегодня почище цензуры. Он разрушает, а цензура запрещает. Но цензуру можно обойти, а как работать без публики?
Вот театр и принялся изготовлять всякого рода заменители. Им потребовались площадка с софитами и рукоплескания с восторгами. Индустрия моды приступила к культивированию своих вкусов и стандартов – и опять классика в них не вписалась, не вошла в новейшие реестры и регламенты. «Вы не в тренде», – стали нам говорить. И правда – в «тренде» нынче попсовый Достоевский и перекуроченный Шекспир.
Трудно поверить, но «Гамлета» сегодня играют… в писсуаре. Точнее, «в баре спортивного клуба, между мужским сортиром (слева) и женским (справа). Монолог “быть или не быть” Гамлет произносит в писсуаре слева, а Офелия, напринимавшись таблеток в сцене безумия, запирается в женской кабинке (справа), чтобы “умереть” (журнал “Планета красота”. № 03–04 2014, стр. 71). Клавдий здесь моет посуду, смотрит по телеку футбольный матч и хлещет виски… Гилденстерн не человек, а собака Розенкранца, а роль Розенкранца исполняет за двоих актёр-чревовещатель. И всё это не где-нибудь, а на сцене главного Театра Франции – в “Комеди Франсез”!»
И беда даже не в том, что эти «новации прочтения» перемешивают века в безвкусице и «китче», а в том, что великий текст порезан нещадно, а «всякие философские размышления сведены к минимуму».
Ещё выразительный пример. Недавно удалось посмотреть новую «Бесприданницу», где Робинзон – актёр нетрадиционной ориентации – нечаянно целует Паратова в губы и, отвергнутый им, долго стучится головой и телом о деревянный забор. Так передано его страдание и несчастная судьба. Александр Николаевич Островский, присутствуй он в зале, наверняка прибил бы палкой и режиссёра, и исполнителя. Но нет, всё сходит сегодня с рук! Впрочем, критик Дёмин в своей статье издаёт риторический вопль: «Театральный терроризм распространяют на другие неповинные труппы. Сумеют ли театры противостоять профанам?»
Ответ ясен: уже не сумели.
Всё это, сваленное в кучу и по отдельности, конечно же, нуждается в комментариях, но я не буду здесь этим заниматься, ибо не в моих правилах обсуждать деяния и злодеяния коллег. Тут важно не столько кто, что и почему ТАК сделал, сколько кто, что и почему сделал НЕ ТАК. То есть я хотел бы знать не их механизмы постановочного труда, а свои собственные; мне интересно не то, как ОНИ поставили, а то, как бы Я поставил то же самое, что они. Это нормальное восприятие чужого, если оно чуждое. Надо учиться на чужих ошибках, чтобы не делать свои. Надо анализировать, а не просто осуждать, отворачиваться и скрипеть зубами. «Нет, мы пойдём другим путём», – плодотворная фраза, которая нужна всякому творцу, знающему, что «другой путь» тоже может быть ошибочным. Поэтому следует отвечать за своё