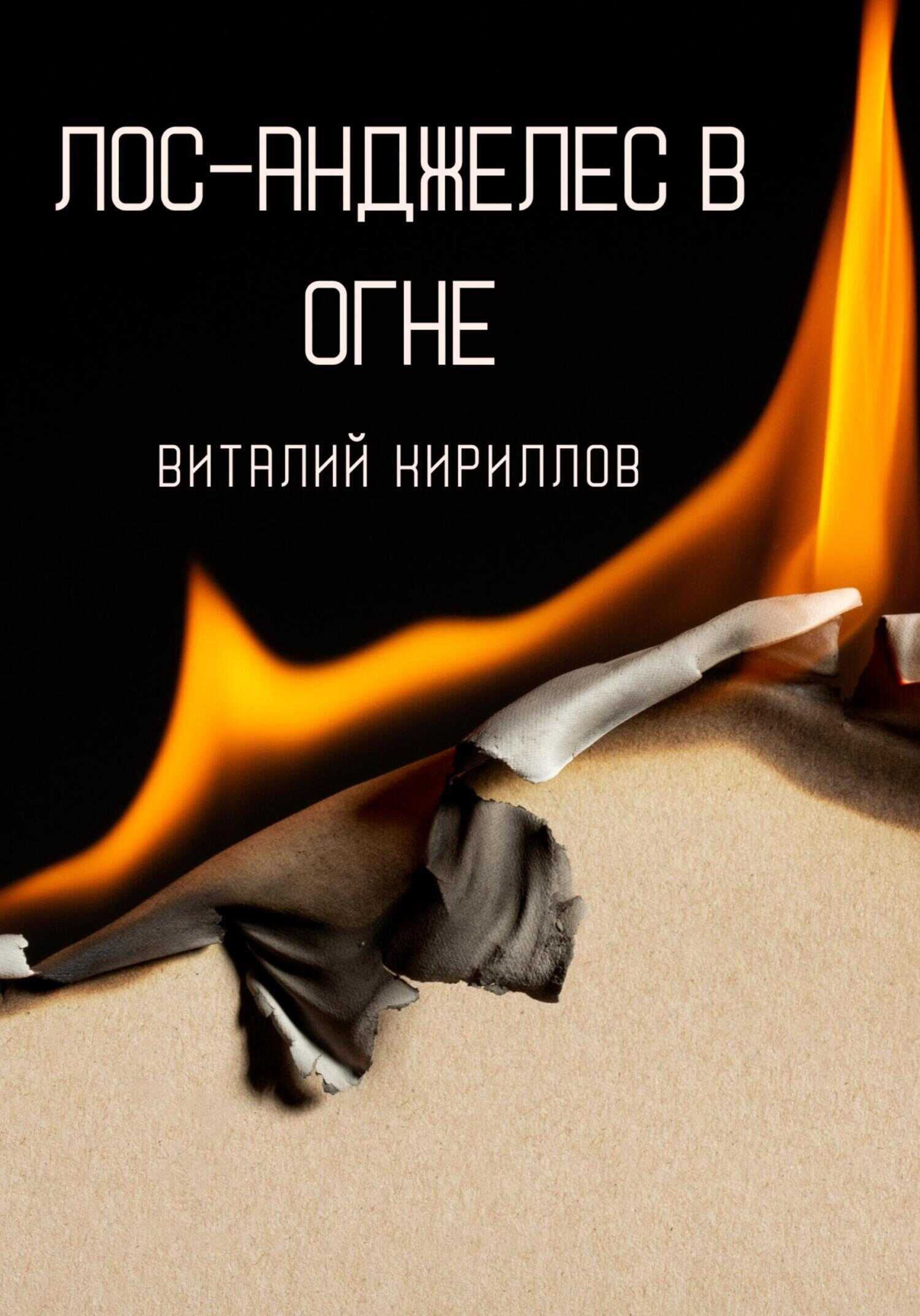том, что знают, как этого добиться. Касаются спины, растирают и поглаживают так, будто хотят, чтобы их упрямство перетекло в кровеносные сосуды спины, и тогда спина прогнется, а как же иначе?
Дочь верит в силу своих рук: стоит только коснуться – и сопротивление разбито.
Но спина сжимается со звуком разрывающейся ткани и мямлит «нет, нет, нет».
Это слово принадлежит Дочери. Это ее право от рождения. На все говорить «нет», а остальные должны утешать-раз-влекать. «Давай же, возьми, красотка моя, доченька, принцесса. Луна принесла издалека сладких пончиков, вы ешьте из тарелки, а малышке дайте в пиалочке[5]. Моя куколка, мое сокровище».
Брат, который был на десять лет старше, иногда раззадоривал ее:
– Нет, скажи «нет», мотни головой, «нет», всё, вот и сказала «нет»!
Малышкино «нет» всех приводило в восторг. В детстве она состояла из одного только «нет». Вплоть до того, что, если надо было заставить ее что-то сделать, стоило лишь сказать наоборот, а она, тут же выпалив «нет», делала то, чего от нее добивались.
– Не ешь паратху, поешь рис!
– Нет, буду есть паратху!
– Попей чаю, не бери молоко!
– Нет, молоко, молоко!
– Выбрось синий, не красный!
– Красный, красный, не синий!
– Бодрствуешь, не спишь? Глаза открой!
– Не-е-ет… Закрою глаза.
Однажды, когда повар принес соус из зеленого чили, кинзы и мяты, Мама хотела остановить его:
– Нет, нет, унеси скорее – рот обожжет.
Но дочь услышала милое сердцу «нет» и подняла ужасный визг:
– Нет, дай сюда! Нет, буду!
Детство прошло, и она со своим «нет» уже не забавляла всех вокруг, но ее «нет» повзрослело вместе с ней:
– Нет, я не буду шить, нет, не надену дупатту, нет, я не под арестом, нет, я не вы.
«Нет, нет, нет» настолько слилось с ней, что, даже если она хотела сказать «да», губы сначала складывались в «нет».
– Выпей чаю.
– Нет, выпью чаю.
– Очень холодно.
– Нет, очень холодно.
С «нет» начинается путь. Свобода сделана из «нет». «Нет» – это веселье. «Нет» – это дурачество. Дурачество – это путь суфия.
Но Старший, повзрослев, должен был исполнять другой обряд. Пока маленькая, бог с тобой, не слушай никого, но выросла, и приходится указывать, что делать, а что нет. Ни у кого не вызывает вопросов, что брат должен отчитывать сестру, вложив голос родителей в собственные уста. Но когда к сонму возражений примкнула толпа любовников сестры, Старший впал в абсолютное бессилие. Сегодня Лысый Патель, завтра Очкарикуддин, послезавтра Бородач Дархияль. А когда эти три привлекательных качества соединились в одном избраннике и домашняя девочка, она же сестра Старшего, стала героиней городских сплетен и перешептываний, то груз ответственности, накопленный всеми поколениями предков, рухнул на его плечи и чувство долга выросло до такой степени, что настал черед крайних мер. Пусть никто в доме с ней не разговаривает, не смотрит вместе с ней телевизор, не готовит для нее кокосовое бурфи, не смотрит в глаза при встрече и не улыбается ни за что на свете. Так она осознает свои ошибки, и эта полоса несчастий наконец закончится.
Но прогонять ее и хлопать дверью перед носом он не собирался. Одна мысль, что она где-то шатается одна и ищет себе пристанище, была нестерпима для него. «Раз вы здесь, – сыпалось на Мать, – почему она живет где-то еще?»
Но у дочерей, говорящих «нет», ноги ведут себя по-другому: придя потом к двери, они в сомнении замерли, а тогда, в начале, понеслись наружу.
Дверь и коридор приходилось мыть фенолом, но это другая история. Там Бородач-Лысый-Очкарик и еще сестрино-бог-весть-что, какие-то тяжелые вещи, хлам, унеси-принеси – все это расползалось, как грязь. Это была борьба за чистоту, в которой с призраками и прочей нечистью сражались метлой.
Ну и пусть метлой – это сюжет отдельный, а нам нужно приподнять другую завесу истории. Сейчас Старший стоит в комнате Матери, чуть позади сестры, чуть в стороне. Они – по отдельности, но оба смотрят на спину Матери. Лысый-Бо-родач-Очкарик уже давно в прошлом, и все, что осталось, – это сострадание брата к одиночеству сестры. Дом, деньги, работа – все в полном порядке, но осталась одна.
«Как здешнее «нет» вдруг зазвучало оттуда? Что за рокировка? И «нет» не для брата, а для сестры. «Нет» от Мамы, а не от меня. Как будто кто-то всколыхнул старый прах слова, некогда такого действенного в моей жизни, а теперь от него почти ничего не осталось, потому что кто-то другой говорит его кому-то другому. И если я теперь сама себе хозяйка, то «нет» все равно мое, и откуда тогда оно взялось у Мамы?» Какая надобность была во всех этих рассуждениях сестры? Просто случилось так, что «нет» доносилось со стороны спины.
13
Подергиваясь и кряхтя, спина выравнивается подобно стене, как будто и впрямь стала теперь стеной. Но ведь живая спина не может стать стеной? Сможет, если захочет. А хочет она не видеть и не слышать тех, кто пытается вернуть к жизни умирающую старуху.
Старые привычки затягивают покрепче, чем выпивка и биди[6]. Спина стала ситом, в котором каждый пробил нескончаемое число дыр своими оскорблениями, раздражением и душевными излияниями – какие уж тут заплаты? Теперь, прежде чем услышать и увидеть, она принюхивается. Доносится знакомый звук шагов и стук в дверь.
– Размером с футбольный мяч! А цвет какой! Фиолетовые! – Дочь пытается увлечь ее хризантемами. Она гордится тем, что может преодолеть нехоженую тропу любой сложности – так ей удалось обрести свой собственный дом вне стен этого.
– Спроси у Мамы, куда поставить букеты, – обращается к садовнику Невестка, не желающая оставаться в стороне.
– Только не из нутовой муки, она забивает желудок. Из маша, спроси у Мамы, как приготовить, – вступает Старший.
Все борются за звание самого заботливого.
Грубости, упреки и насмешки тоже просачиваются сквозь щели.
Отойди, я опаздываю… Посмотрите-ка, опять неправильно положил трубку, пора уже бросать эту чиновничью привычку тунеядствовать… Вечером придет Фатту, приготовь свежий кхир, не вздумай подавать кешью-барфи месячной давности… прачка сжег дорогущую рубашку, где взять такую же теперь? Твои родители закажут? Американская была… Скажи водителю, чтобы заправил пока машину и чек отдал мне, а не тебе… Воду пролила, хочешь, чтобы Мама поскользнулась? Если встанет, поскользнется… Вот почему ты хочешь, чтобы она встала… Хорошо, это я сказал… Если шутишь, то хотя бы смешно… Какие уж тут шутки, если кто-то и захочет встать, то не встанет, потому что тут все наготове разлить воду, чтобы он упал, или накормить ядом… Что скажете, господин