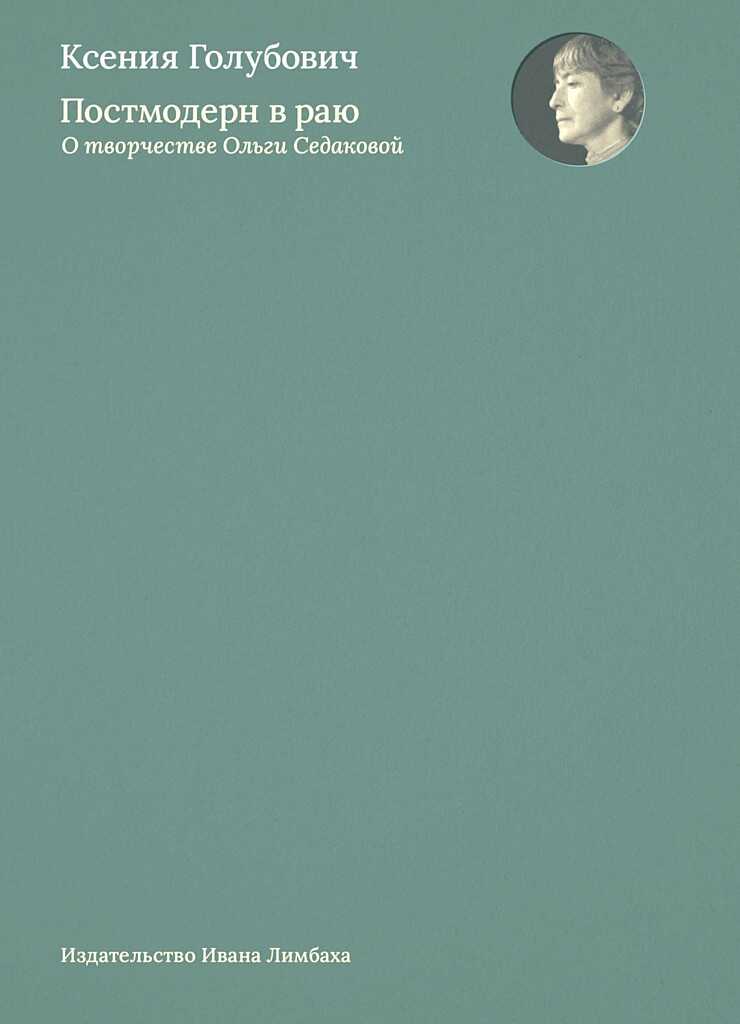самых странных оптических изменений знакомого пространства, вновь начинается жизнь – Белград.
(В) Сашина книга
25. Белград…
…нет ни готической собранности, ни плавности городского ландшафта XIX века, что можно увидеть в Чехии или Польше. Мешаясь во взгляде, плывут мимо новостройки и бедные, почти деревянные квартальчики, бульвары на французский манер и перегруженные, все в железных вагончиках-киосках, рынки. Повороты улиц не подчиняются циркулю архитектора, но скорее – как если бы какую-нибудь шедшую по своим уже делам немолодую улицу окликнули откуда-то сбоку и она обернулась не очень спешно и пошла на зов. Или, наоборот, как если бы какой-нибудь проулок-мальчишка, круто развернувшись, задел локтем прохожего и юркнул между домами, исчезая на повороте…
26. Крепость
Саша, а зовут его именно Саша, ведет меня в первый день по Князь Михайлов, главной улице Белграда, пешеходной улице со множеством кафе, с французским культурным центром, на котором вывешен портрет Виктора Гюго. У Гюго юбилей, в Москве тоже празднуют, правда не на главной улице города. Меня удивляет этот Гюго, который, впрочем, тут как нельзя кстати. Ибо и Сербия как будто осталась в XIX веке, среди больших фигур, среди эпических полотен, среди «борьбы за свободу». Так что Гюго следовало бы даже оставить. Кого бы французы, если бы хотели быть не просто архивным образовательным учреждением, а самой французской политикой, должны были повесить у нас в качестве символа обоюдных отношений? Поскольку мы уже выбыли из XIX века и нас лучше описывают фигуры века ХХ, то я бы советовала Мишеля Фуко с его лозунгом Il faut se defendre!– Надо себя защищать!
Князь Михайлов, столь же нарочито новая, как Новый Арбат, заканчивается темнолиственным сумрачным парком. В нем бабушки на скамейках вяжут платки, носки на продажу, дежурят под пляжными зонтиками у своих столообразных холодильников продавцы мороженого, пожилые мужчины играют в шахматы, бегают за голубями дети. Это тихая непритязательная зрелищность наконец прокладывает перед нами подъем к старой крепости Белграда.
Крепость – в самом центре, на первый взгляд в ней мало интересного, кроме разве что стоящих у ее стен трофеев: различных видов пушек, наземных и морских, танков времен Первой и Второй мировой войны, немецких, французских, австрийских, советских. «Здесь все воевали», – смеется Саша.
Действительно, крепость, по которой мы бродим, слоиста, как сама история Балкан. Начинается она с римского слоя, на него накладывается турецкий слой, затем австро-венгерский: где камень – это Австро-Венгрия, где кирпич – турки, четкие фортификационные линии украшаются полукруглыми минаретами, ракушками-бойницами. Здесь ворота построили римляне, здесь – проход и ворота – турки, здесь – австро-венгры. Типы власти сменяют друг друга в одном и том же сооружении, создавая причудливое единство, и старое оружие, стоящее как мемориал вокруг и внутри крепости, тоже часть этих слоев – время единой Югославии, державшейся этим оружием. Я залезаю на немецкий танк времен Первой мировой и заглядываю внутрь. В самом деле похоже на глубокую консервную банку с каким-то очень неудобным стулом внутри. А потом залезаю на более просторный и удобный Т-34. «Через пятьдесят лет залезла на свой танк», – комментирует Саша.
Странное чувство и узнавания и неузнавания: наше оружие – но не дома. И хотя выглядит оно так же, как и у нас, в Москве, однако статус его совсем другой: сгруженное там же, где австрийское, немецкое, итальянское, американское, оно говорит о нашем участии в мировой истории, а не о нашей отъединенности от нее.
27. Оружие
Как и в Москве, все старые орудия покрашены зеленой краской от дождей. Эта тошнотворная зеленая краска – одна и та же и в моем, и в Сашином детстве. Это зеленое крашеное орудие, объясняемое обычно казенными тетечкиными голосами, цифры, ничего не значащие имена сражений всплывают в моей памяти, как какие-то чудовищные монстры, неврастенические эйдосы советского строя, громыхающие гиганты из кинофильмов.
Но вот руки десятилетней войны – а Саша воевал десять лет – касаются оружия, слова начинают рассказывать вслед за руками, вбегая по внутренности этих странных монстров,– и монстры оживают. С Сашей на них можно запрыгивать, залезать, они обретают смысл, их громоздкость таит в себе расчет и умную человеческую мысль: мысль одного человека о том, другом человеке, который будет защищаться от еще одного человека, который должен защищаться от этого. Все вдруг словно прирастает к человеку: здесь наводится, здесь затягивается, в эту щель ты будешь смотреть – тогда, когда линия боя, а стало быть, истории и мира будет проходить ровно по тебе. Двигаясь вслед этой несуществующей, но реальной линии боя, наши орудия и мы посредством них – потрясает меня – придвинулись до Балкан. Оружие, впервые доходит теперь уже до меня,– это не просто деформированное уродство. Оружие – это действующие мысли, солдаты – те, кто держат эти мысли в руках, а бой идет на том абсолютном краю мира, где только эта сконцентрированная мыслью груда железа отделяет тебя – от смерти, а мир, как ты его знаешь,– от гибели. Оружие – это мысль о мире, слишком большая, как говорил Уильям Блейк, «для человеческого ума», ибо, держа мир на своем кончике, приближая его к нам до неимоверности, оно раскрывает превышающие наш разум видения вечности. И этим оружием люди всегда умели думать, понимаю вдруг я. И в каком-то пронесшемся видении вижу исполинов, которые катают огромные шары, не как в кегельбане, а как бы по полю, по огромному серому полю, большие серые шары, катящиеся страшно. Исполины спокойны и собранны, они не боятся этих шаров, они смотрят – и головы их на уровне неба. В Асгарде боги играли в шары, правда, те были у них – золотые. А скальды, умевшие перебирать свои струны, были воинами, умевшими играть своими мечами. Мое видение окрашено в цвета реальности. Это все и есть – «мысль», или «сон» о мире. Уснувший сон.
28. Мысль
Мысль, воплощенная этим оружием, танками, бронетранспортерами, крейсерами, держала в подчинении половину мира и определяла черты целой мировой эпохи. Что это была за мысль, как можно выразить ее не на техническом языке? В ней – видение мира как географической карты, снятой с аэроплана, в ней – огромное наднациональное, системное напряжение к мировому целому, чьим образом и в самом деле может быть именно танк. Ибо главная техническая мысль танка состоит в огромности расстояния, ставшего доступным человеку, и массовости разрушений, которое дает каждое его использование, а также в