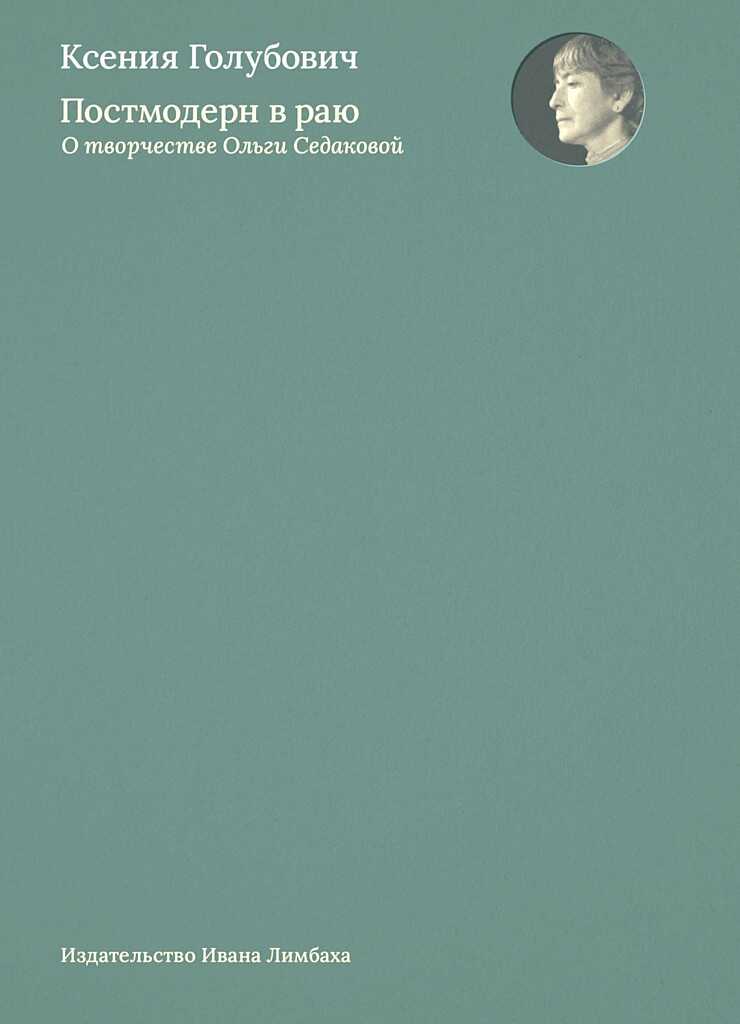воспоминаний – сама его одежда, вспыхивающая вокруг него. «„Бьюик“, „бьюик“?» – различаю я. «Это,– толкует отец, знающий наизусть все ее телевидения,– она все вспоминает, как на „бьюике“ каталась. Дед послом был в Румынии (в те три года, что между Тито и Сталиным царил мир), и у них был трофейный американский „бьюик“ и она в нем каталась». Бабушка кивает и начинает сама рассказывать про «бьюик». Ей так хочется перенести все это прошлое вновь в настоящее, сбросить с себя его тяжелый груз, доказать еще что-то живущим. От этого она совсем не может говорить с нами в здесь и сейчас.
23. А там – девочка
«Бабушка! Бабушка!» Я обнимаю и целую ее, целую в упругое, родное, морщинистое лицо. Оно тут же принимает какое-то смущенное, детское выражение, как у маленькой девочки, застигнутой врасплох, выглядывающей из-под большого цветущего куста, где ее наконец нашли. Этот куст, вижу я, – вся бывшая или еще только грядущая эпоха, вся бабушкина будущая жизнь, которая вдруг отодвигается от нее, оставляя ее там, где еще ничего не было, и весь мир висит огромным, пахучим цветистым садовым облаком.
Точно отодвигая занавес слепоты, раздвигая густой жар воспоминаний, бабушка оглядывается вокруг, точно сбросив с себя сон, и говорит мне, и только мне, как-то слабо и растерянно: «Ксюша моя, не так, не так нам бы надо с тобой встретиться».
Какая странная оптика старости: в здесь и сейчас у старости только прошлое, толпы прошлого, а в ушедшем и удаленном таится ее радостное, простое и абсолютно нереальное настоящее, где нет ничего, кроме самого этого настоящего, лишенного всякого веса и плотности. Перед этим счастливым мгновением вне прошлого наша реальность в здесь и сейчас – только самый конец бабушкиных воспоминаний.
Удерживаясь на этой все еще длящейся смущенной улыбке, где мы с ней? Возникает странное ощущение: будто и я, и она пребываем на самом деле в совсем другом месте, где-то между мирами. Я, приходящая, и она, уходящая, и – обе, переходящие, мы, несомненно, наполовину существуем и не здесь и не сейчас. Отодвигая весь мир, как занавес, своей удивленной улыбкой бабушка дает мне знать, что знает о том, что я знаю, что все это только игра, а вот «они», «взрослые» или «большие» – все те, кто «на сцене», кто думает, что все это реально, «всерьез», и мой отец в первую очередь, – ничего знать не должны. О, если бы она могла задержаться в этом состоянии невесомости и говорить просто так, говорить о чем-то другом, скользящем мимо, быть этой странной робкой девочкой без прошлого; о, если бы мы с ней могли побыть в этом чудесном саду!
Но вдруг, словно устав или наскучив, девочка-бабушка разворачивается и убегает, и бабушка-старушка вновь переносится почти на девяносто лет вперед, сюда, где меня для нее нет. Вновь и вновь будет она появляться в центре какого-нибудь разговора, нарушая его течение, перечисляя свои горести и победы, поминая слова и дела живых и уже умерших. Ее худые руки, удерживая равновесие ее хрупкого тела, точно в гармонии танца, четки и слаженны в движениях, а проемы дверей, в которых она будет появляться, обрамят ее, как рама – картину, создавая особое чувство ирреальности у тех, для кого эта обстановка не кажется еще произведением их собственного воображения. А потом вдруг опять радостно, как ребенок или дух от приношений, загораясь от шоколадной конфетки или маленькой булочки-кифлицы, бабушка возобновит совсем молчаливое, тихое брожение по кухне и комнатам, наедине с собою в каком-то совершенно одиноком, не имеющем никакого зрителя мире, бродя уже нигде, уже никогда.
«Не обижай ее, – скажет потом Радко, ее племянник, моему отцу, устающему от бабушкиных бурь, – у миленькой была тяжелая жизнь». «Миленькая», – говорит он на все бабушкины громы и молнии. «Миленькая», – повторяю за ним я и все касаюсь и касаюсь ее, волочащую за собой свою жизнь, как девочка, одетая в тяжелое женское платье.
24. Япония и пчелы
Как странно, что «советское» из детства, с которым я ждала встретиться в моей бабушке, вдруг, точно в знак особого мне приветствия, со всем неправдоподобием театрального преувеличения стало похожим на «японское». Так, будто оказывается мистически права массовая культура, в которой «Япония» уже давно стала знаком эпохи высокого и траурного, религиозного буддистско-имперского, позднесредневекового духа, неугасимости воспоминаний и скорби. Без сомнения, будучи еще самим собой, желтоватым, расфокусированным, «советское» уже всегда было глубоко траурным и печальным, уже истощенным своим стремлением удерживать весь мир на каком-то едином общем плане. План этот должен был растягиваться все дальше, чтобы охватить как можно больше поверхности, используя тела людей как шпульки для натягивания держащих его нитей. Как когда вода в луже растекается вширь, сила эта стала столь тонка в глубину, что почти совпала с самой землей и обернулась бессилием.
«Вот смотри, пчелы, – повторяет отец, – здесь очень чисто». Что он мне все о пчелах, или кто-то, кто ведет меня через это путешествие, говорит со мной? Пчелы, вспоминается мне о пещере Порфирия, – это те, кто очищают сладкий мед и ведут к новому порождению. Они приманивают мужчин и женщин друг к другу манком вечности, сладкого, тягучего, нескончаемого времени, которое длится лишь до тех пор, пока не завяжется плод и время не получит себе новую пищу. Но также пчелы и очищают мед, плоть, внушая пророческие сны, переводя человека за этот порог жизни обратно. «Все мы тут туристы, – сказал один старый итальянец. – Нет ни рая, ни ада, а просто распахнется окно и, как детей, позовут нас отсюда: „Домой!“ „Домой!“» Точно в душистый сад.
Это же, точно по наитию, сделала для бабушки Сербия, но, впрочем, лишь затем, чтобы освободить в ней еще кого-то – маленькую черногорскую девочку со смущенной улыбкой, застигнутую врасплох под огромным, в мир величиной цветущим облаком жизни. Эта девочка, рассыпав печенье, бегает прочь, не связанная больше с бытием тем сладким, тягучим вкусовым сгустком, который всегда, видно, остается как его первая завязь в основе даже давно рожденного тела. Не потому ли ее жизнь и была так тяжела ей, что до самого конца в ней оставалось чувство близкого, глубоко религиозного ощущения тяжести, суровости жизни как таковой, самого бытия в жизни, с которым она не могла справиться, которое хвалила и проклинала. Казалось, она не очень любила жить.
Темно-зеленое облако кустов шевелится от пчел. Белые каменные плиты перед домом овевает дневной ветер. За порогом этого дома, где я увидела одно из