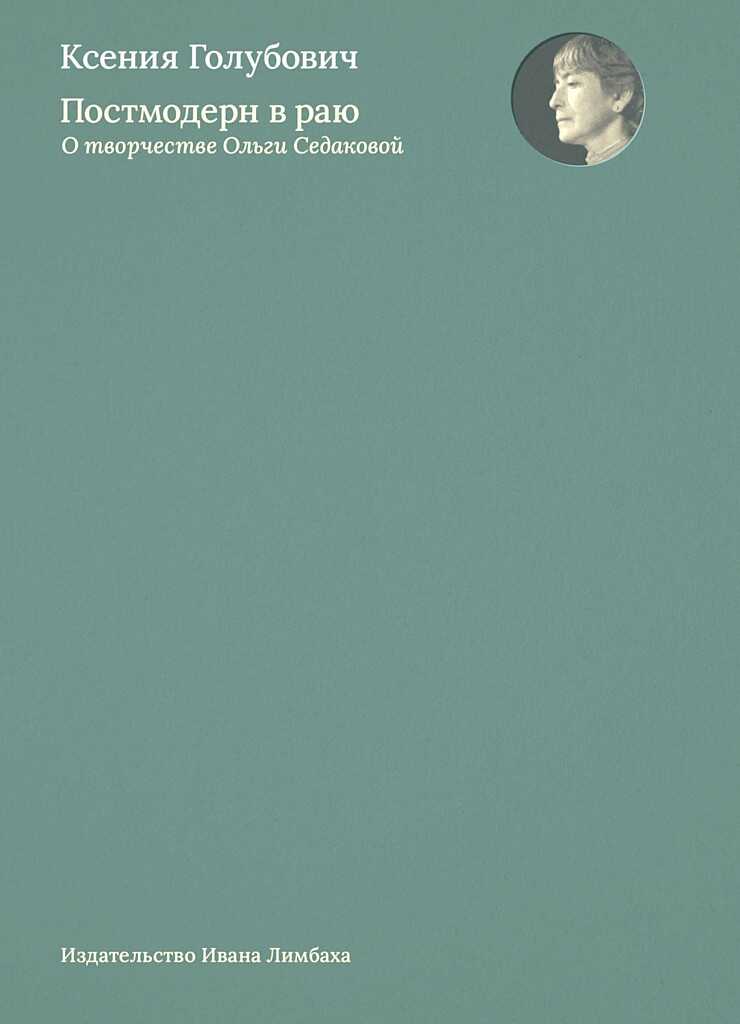распространяет вокруг совсем другой вид, чем бабушкина, и именно этот вид он старается мне показать, потому что хочет показать мне Сербию, ту страну, которой нет на мировой карте, которой не видно со спутников, ибо она – в зрачках своих носителей. Сербы, пишет Вирилио, первыми научились воевать в условиях паноптикума.
31. Продолжение в Которе
«Ты не была в Которе?!» – спрашивает он меня, едва успев приехать навестить нас в Черногории, где мы отдыхаем. «Нет».– «Твой отец не свозил тебя туда?» – «Нет»,– отвечаю я, безмятежно поглядывая на отца, потому что о Которе только и шли разговоры и я не раз намекала на Котор, про который все говорили, что не увидеть его – значит не увидеть ничего на побережье. Отец соглашался, но все медлил и теперь сидит слегка сконфуженный. «Садись. Едем» – это звучит почти как приказ. Котор с узкими белыми каменными незапамятными улочками, с красной черепицей, с темной горой, точно театральный задник возвышающейся сразу за городом и венчающейся монастырем, прекрасное место для беседы, которую я собираюсь с ним вести. Мы только что обходили весь город, похожий, как брат на брата, на любой средневековый, а вернее – со своими фонтанами и деревьями, маленькими площадями – на любой другой ранневозрожденческий город средиземноморской Европы. Да ведь и строили его, кроме сербов, венецианцы и генуэзцы. Его улицы и дома – из одного белого камня, он похож на один огромный дом, но только без общей крыши, а с крышей для каждой из своих многочисленных комнат… Узкие проходы, по которым то и дело снуют быстрые, сильные кошки, умело, как пешеходы, отходящие ровно настолько, чтобы дать пройти; пышные, старые церкви, католические и православные, площади с фонтанчиками и одиноко растущими посреди их камня деревьями. На одной из таких площадей, пожалуй, самой старой в раскрытых окнах невысокого двухэтажного дома, я вижу то, что среди всей этой средневековости как-то странно трогает меня: допоздна задержавшихся шахматистов-пенсионеров, доигрывавших свои партии. Залитый электрическим светом шахматный клуб – одна большая комната в этаж, на стенах которой в возрастающем порядке висят лучшие сербские игроки всех времен, важностью своих карандашных лиц напоминающие отцов семейств с крестьянских фотографий. Низ любительских портретов украшен изображениями пышных лавровых венков – не менее пышных, чем усы, вихры и гордые развороты шей на портретах. Этот оазис напоминает мне об ушедшем времени – быть может, о 20-х, когда новое, модернизированное устройство мира, еще не имея своих форм, просто въезжало в старое. Шахматы – эта игра XX века, игра силовых полей и битв принадлежит прошлому, как и простая надпись библиотека на одной из древних дверей Котора.
Карнавал идет по улицам Котора, звучит музыка, смесь турецкой и еврейской. Я зову Сашу танцевать. Он отказывается. Он никогда не танцует. «Почему?» Чтобы дождаться ответа на это «почему», мне приходится идти с ним за пределы города, на старинный каменный мост, нависающий над бурной, хоть и мелкой водою. В этом месте из маленького истока недалеко от городских стен начинается река, которая метров через тридцать впадает в Адриатическое море. Сюда же, особенно в прилив, из любопытства или заворачивая по праву на давно отданные в лен владения, затекают морские воды. И, сложив это все вместе, мост разрешает течь и спорить, не смешиваясь двум потокам – соленому и пресному, темному и светлому, легкому и тяжелому. Саше и мне. «Я не танцую. Потому что танцуют от радости или горя». По ответу я понимаю, от чего из двух в последний раз танцевал Саша. Да, у Саши есть свой внутренний театр, все те «мужчины, женщины, старики, дети», которых он вспоминает, которые ушли за эти десять лет, растворились в бурях недавних войн. Но в отличие от бабушкиного горя, где истощались в гигантских абстрактных противостояниях все соки мира, Сашино горе состоит не столько из врагов и друзей, сколько из личных потерь и воспоминаний. Эти потери и воспоминания отбрасывают несколько грустный отсвет на все вокруг и своими образами, хранимыми подробностями, обогащают ту оптику, что теперь распространяется прочной пленкой ясной видимости вокруг Саши.
Мы садимся на маленькой старой площади, в кафе под открытым небом, которое закрывается листвой огромного, толстого, как баобаб, дерева с зеленоватой корой, стоящего посредине. Его крона огромна, тучна, жирна даже, с каждой его ветки струится тонкая нить, как гирлянда, увешанная красиво, как салфеточки, вырезанными сердцевидными листьями. Я не вполне верю в то, что вижу. «Это – береза», – говорит Саша. Не может быть: без знаменитых далматиновых прогалин, без белизны, зеленокорая, волнистая, как само море, огромная двухсотлетняя береза.
32. Саша и сербы
Я замечаю при этом, что все разговоры с Сашей как-то странно обрамляются кронами деревьев. И когда мы ходили по замку, и когда сидели после этого в уютном белградском кафе под таким же огромным деревом, и вот теперь. Что ж, видимо, надо иметь в голове это шуршание, этот огромный простор одного дерева, удаляющуюся вглубь перспективу, чтобы понять, что он скажет. Вокруг нас, словно следуя по пятам, которский карнавал. Это не настоящий карнавал, потому что настоящие костюмы можно надевать, когда нет жары, теперь же это – просто бизнес. Люди одеты в костюмы диснеевских микки-маусов и далматинцев, и контраст со старинным городом, с недавней войной заставляет меня пристальнее слушать Сашу. Неужели он не видит этой обратной стороны «сербов» – их «американской» стороны? Неужели не видит, что то, против чего он борется, расцветает у него же дома и что деньги и доступная яркость имеют необоримую власть над простыми душами? Неужели он, сражавшийся против НАТО и веривший Милошевичу, не видит конфликта между собой и тем, что приходит с железной необходимостью фатума? Что он защищает, когда все уже сдались?
«Ничего не нужно,– говорит Саша,– ни денег, ни славы. Посмотри на это дерево. Оно выросло из тоненькой травки. Ты знаешь, что оно пережило за двести лет, кого здесь только не было? Немцы, турки, австрийцы, венецианцы, генуэзцы… У меня можно все отнять. Машина?– можно отнять машину. Дети? Они вырастут и уйдут. Жена? Ее, может, уже любит кто-то сейчас. Но того, что я серб, отнять нельзя. Я родился на этой земле и лягу в нее. Я уже победитель». Но ведь сами сербы могут срубить дерево и поставить на его месте «Макдоналдс». Он смотрит на меня спокойно, как-то по-воловьи безмятежно, и я чувствую, что серьезно промахиваюсь. Разве он сказал, что у него нельзя отнять и