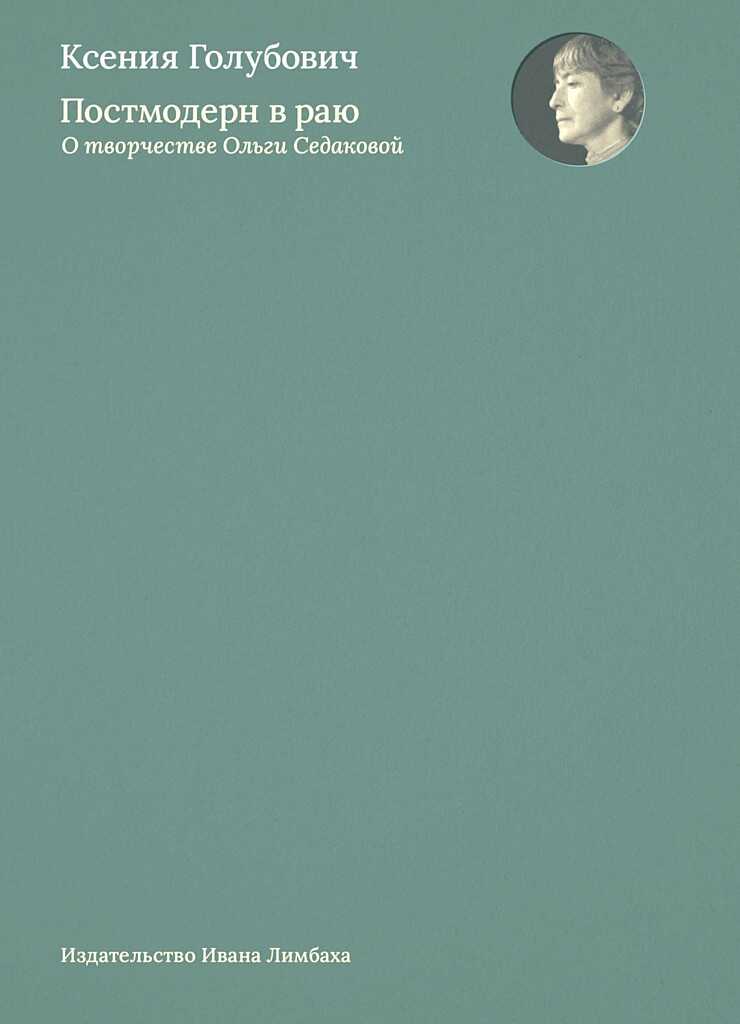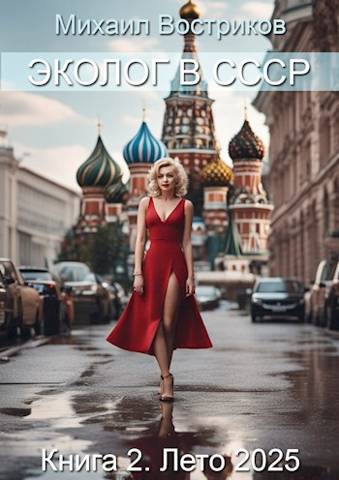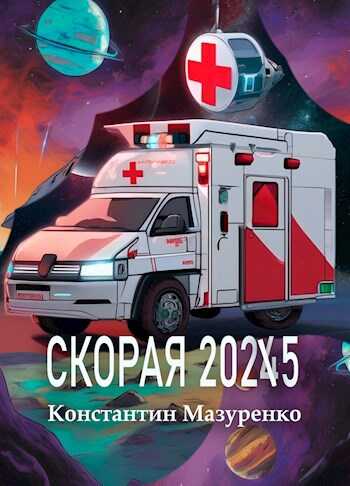этого?
Однажды и весь этот народ сойдет с лица земли к тем, кто ушли раньше, но то, чему принадлежит Саша, в самом себе бесконечно. Он – серб, он – на земле сербов, на этой земле, умея жить на ней, он – уже победитель. «Серб» – это мысль, дающая силу, именно потому, что всякий «серб» уже вмещает в себя Сербию, как некий внутри несомый хрустальный шар, и никакой американец тут ничего не поймет. Сербия может пройти, но сама в себе она бесконечна. Саша созерцает Сербию, все, что он любит и знает в ней, все, что пережил, мужчин, женщин, детей, стариков, как завораживающую гипнотическую мысль о самом себе. Современный технический мир с его историей личного успеха и множеством неудачников – стран и индивидов – не имеет к этой Сербии, пронизанной тысячью связей, путешествий, паломничеств, разговоров, прожитых времен, никакого отношения…
Ведь полная правда о Саше состоит в том, что его же собственная мать – немка и католичка. Более того, она оставила его в раннем возрасте и уехала в Германию, где вышла замуж за «негра». И у Саши имеется родной брат «негр» и служит он в войсках НАТО. И они вполне могли бы, как в лучших эпических песнях, встретиться на поле битвы, два единоутробных брата-соперника. Тот, кто называет себя сербом, сам оказывается своим собственным близнецом, братом-врагом. Это – типичная логика эпоса, когда сама смерть имеет лицо брата, оборотное, перевернутое лицо: разве хорват не брат-предатель, разве мусульманин – не бывший серб?
33. С отцом вечером
…вечером первого дня в центре Белграда отец мне покажет старые улицы, освещенные приятным фонарным светом. Там цветут большие платаны, каштаны, тополя, под ними множество кафе, играют музыканты. Улицы узкие, пешеходные, старинные каменные дома с лепниной. Такой улицей хотели сделать когда-то Арбат. Сидя в кафе на площади под платанами, заполненной множеством белых изящных столиков, я думаю об этой перестроечной мечте, не сбывшейся у нас: быть как в Восточной Европе, мягкой, интеллигентной, с музыкантами и художниками на улицах, с полусредневековым, полубуржуазным местечковым духом «города мастеров». Высокие официанты, все в черном, в белых фартуках-простынях, подходят к нам, говорят с отцом и весело поглядывают на меня. Это могло бы быть «Прагой» – Прагой моего воображения. «Вон видишь, хозяин», – спрашивает отец. Я смотрю на лысого человечка, отличающегося от официантов лишь белым кителем, надетым поверх рубахи и жилетки. «Он здесь был всегда. Еще при немцах. Всегда обсчитывает, подлец, но только не меня. Меня не проведет». В моем воображении та же самая площадь вдруг заполняется немецкими офицерами в серой фашистской форме, дамочками, музыкой. Танцуют. Шум голосов. Я чувствую, как они веселятся, как им хорошо, как они празднуют победу. За стеной, обрамляющей площадь, – темные большие деревья, задумчиво смотрящие на нее. Деревья, темные глубокие леса, где не желающий доли в этом новом учрежденном порядке глава партизанского отряда Радоний Голубович сидит у костра, или спит, или разговаривает с кем-то. А вдоль по мощеным улицам Белграда и дальше, дальше – уже в каком-то другом городе (быть может, Подгорице?), полиция снова приходит за бабушкой Бранкой и ее детьми. И тут же, уже в нашем времени, из-за другого столика, отцу машет высокий элегантный человек в беретке и шейном платке, похожий на француза из 50-х. «Это местный сталинист, – говорит отец. – Очень хороший журналист и аналитик». Время стягивается, если отдаться этому потоку, я, наверное, увижу еще больше той вневременной субстанции, где одно обнимает другое, дополняет собою, как в танце, и вертит, как шар на нитке, всю историю Европы.
34. Если бы вы спросили…
Если бы вы спросили меня, на кого моя бабушка и Саша похожи в той оставленной позади, расфокусированной, советской оптике насилия, у нас располагающейся аккурат возле рекламных щитов и дорогих магазинов, я бы сказала: на коммунистку-пенсионерку и на бандита. Вот на кого они, наверное, похожи.
Но здесь, словно в знак приветствия, мне показывают нечто другое. Словно в дар гостю, в благодарность за приезд Сербия показывает мне мои же, знакомые образы, но другими, вырванными из той страшной пустоты, рассеяния, насилия, которые их окружают в Москве. О, здесь нельзя ошибиться. Можно «прилизать» охранника, но не превратить его легко и незаметно в воина-интеллектуала, несущего свою страну, как волхв хрустальный шар под Рождество. Можно сделать старушку-пенсионерку хорошо одетой дамой, но не превратить ее в странно-молодое пророческое создание, окутанное пеленами воспоминаний и таящее в себе маленькую девочку. Эта какая-то вторая, возвращаемая человеческая, словесная, «щедрая доля» вещей, та, о которой шла речь еще в начале моей книги. Как если бы все то расфокусирование природы человека историей и цивилизацией залечивалось в Сербии, по коммунистическому счету двумя поколениями Советского Союза, быстрее, чем у нас, и дом быстрее и проще воздвигался на месте соединения глубокой нужды и ее превозмогания. Кем бы постепенно стали все герои газетных подвалов, если бы они обрели свою «вторую часть», попав туда в эту «хорошую» оптику, точно в молодильную воду? И если западные люди так сильно отличаются от нас, как будто являются «произведением» искусства, то каким бы произведением и какого искусства стали бы эти «наши» люди, выйди к ним навстречу их собственный дар великого гостеприимства, если бы наконец они оказались у себя дома, если бы сами смогли найти тот «щедрый взгляд», что принес бы завершение их глубокой нужде по восполнению себя в истории? У сербов, мне кажется, область такого завершения, «настоящая» оптика, своя «щедрая доля», промелькивает чаще, чем у нас. Недаром же у них была столь сильная решимость на отстаивание «своего», которой нет у нас, в силу того, что непонятно, что такое это наше «свое».
И у нас оно похоже и разное. «Общая» оптика, видно, так же различается, как наши языки, как наши слова. Их «слово» как-то проще выводит их сокрытые вещи в видимое, в ясное, понятное, проще дает им быть собою, в то время как у русских слова пребывают в области невыносимого, тяжелого насилия, затемненности, неясности, хуже фокусируются и хуже показывают себя, какие они есть, и нам просто легче заменить их на «западную» оптику или сбросить их в «китч», чем доискиваться до их сути.
«Настоящей-то пищи вы, русские, никогда не пробовали,– говорит отец.– А у нас десять лет блокады и все равно – все свое. Здесь все настоящее, весь вкус вещей». Так же он мог бы сказать: настоящего-то своего слова вы, русские, давно не