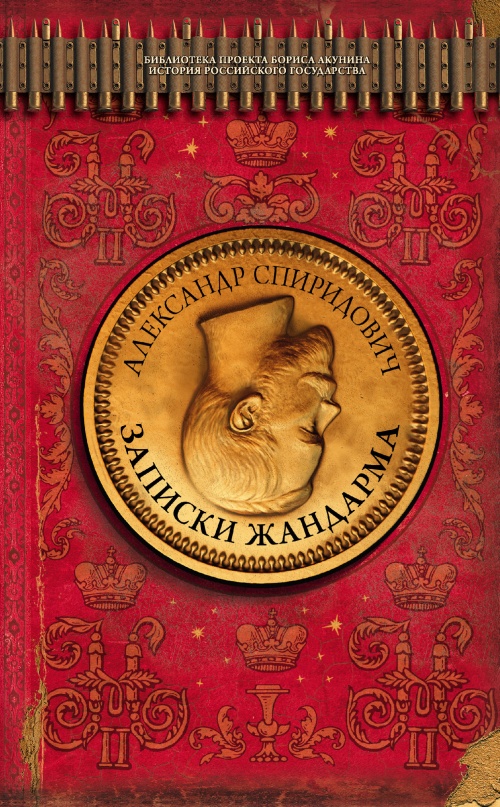Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
стремятся уйти от политизации фактов, клише и стереотипов (хотя полностью уйти от этого невозможно), могут сотрудничать. А второй том, как мне кажется, интересен тем, что он затрагивает еще одну очень острую тему: жизнь Литвы в советское время.
Когда 10 назад я впервые озвучил ее в беседе с моими литовскими коллегами, они отнеслись к этому предложению с большим напряжением. Советское время в Литве нельзя оценивать однозначно: были депортации, ссылки, но тогда же, в начале 1940-х годов, была создана Литовская Академия наук, открывались театры, теле- и радиовещание велось на литовском и еврейском языках, повышались зарплаты учителям, крестьянам и т.д.
Почти половина тома посвящена международной проблематике: тому, как на присоединение Литвы реагировало международное сообщество. Там приводятся полные стенограммы переговоров Сталина с Черчиллем, Сталина с Рузвельтом, Молотова с Иденом и Черчиллем в отношении Прибалтики и в том числе Литвы. Литовские коллеги довольно скептически относились к тому, что я, не приемля термин «оккупация», употреблял определение, которое официально употреблялось в отношении Литвы – инкорпорация: документы, подтверждающие это, приведены в этом томе.
Ну и наконец очень существенный момент: положение Литвы в период фашистской оккупации. Я знаю, что сейчас в Литве много внимания уделяется проблеме холокоста, и это хорошо. Но в этом томе есть документы, свидетельствующие о массовом истреблении еврейского населения в Литве, в котором, к сожалению, принимали участие некоторые литовские граждане. То есть этот том подтверждает, что историю нельзя окрашивать лишь в черно-белые тона.
– Задержка с выпуском второго тома связана трудностями нахождения компромиссных решений?
– В первую очередь это было связано с финансированием, но у нас были и острые дискуссии по поводу некоторых документов. Литовские коллеги очень хотели поместить документы, в частности донесения бывшего литовского посла в Англии, который жестко выступал против Советского Союза. Так как документов было очень много, я возражал. Но полгода назад я приехал в Литву, и мы договорились, что публикуем только четыре документа, и российская сторона дает комментарии.
Мы прокомментировали со ссылкой на английские источники, что этот человек никого в Литве не представлял, а его дипломатический статус был не подтвержден правительством Великобритании. Поэтому он выражал свою точку зрения как частное лицо. Вот в таком компромиссном варианте эта проблема была разрешена. Были разногласия по поводу трактовок восстания 22 июня 1941 года, в котором по нашим документам (мы их представили), конечно, участвовала часть литовского населения, но организовано оно было в Германии. Мы дали к этим документам свой комментарий.
– Можно ли сказать, что по этим вопросам достигнут консенсус?
– Нет, консенсуса нет, есть точки зрения. Литовские историки продолжают считать, что в восстании участвовала какая-то часть литовского населения, но документы ясно свидетельствуют, что его организовал германский посол.
– Политическая элита Литвы неоднократно заявляла, что отношения с Россией имеют шанс улучшиться лишь при условии признания факта оккупации Литвы Советским Союзом. Наш парламент [парламент Литвы. – Примеч. ред.] даже принял закон «О компенсации ущерба от советской оккупации»… Как вы относитесь к таким надеждам Литвы – они имеют основание?
– Во-первых, в научном мире не разговаривают на языке ультиматумов – «вот, вы признайте, а мы тогда»… А во-вторых, я не вижу никаких оснований для того, чтобы российские ученые и общественные деятели изменили свою точку зрения. Я не политик и могу смело сказать, что некоторые современные политики, добиваясь признания «оккупации», стремятся вовсе не к научной точности определения действий СССР, а преследуют практические и политические цели, в том числе и финансового характера.
Это создает абсолютно тупиковую ситуацию. Во-первых, литовское правительство, созданное в 1940 году, состоявшее большей частью из коммунистов и левых, тоже представляло часть литовского народа. Во-вторых, есть документы, которые свидетельствуют о том, что у Советского Союза не было цели физически уничтожить литовский народ. Научные дискуссии могут продолжаться, но важно, чтобы они не свелись к политизированным, идеологическим интерпретациям. История не должна быть заложницей политики, а политика не должна быть заложницей истории. Но это в теории, а на практике, к сожалению, сейчас многие обращаются к истории с этой целью.
Что касается требований «компенсации ущерба», то хорошо бы тоже вспомнить историю: в 1922 году на Генуэзской конференции страны Запада предъявили советской России финансовые претензии, требуя оплатить царские долги и возместить ущерб от национализации предприятий. А Москва привезла встречный иск о компенсации за ущерб, нанесенный ей Западом, – все вопросы сразу были сняты. Экономика Литвы в советское время развивалась довольно успешно. Поэтому, если начинать предъявлять взаимные претензии, это может далеко завести.
Мне кажется, что это вообще бесперспективное дело, которое только ухудшает отношения между двумя странами.
– Существует ли в России единый взгляд на события, предшествовавшие началу Второй мировой войны, в частности, на пакт Молотова–Риббентропа?
– Пакт Молотова–Риббентропа обрел такую политическую остроту, что вокруг него продолжаются дискуссии. Оценки очень разные: отчасти они связаны с противоречивостью обстановки того времени, с тем, что там действительно учитывались проблемы безопасности и стремление застраховаться от возможной войны с Германией, но это не делает секретные приложения к этому правовому акту, разделившие сферы влияния, моральными.
– Можно ли исторический процесс оценивать с позиций морали?
– Есть точка зрения, что мораль и политика – вещи несовместимые. Безусловно, любая политика служит определенным политическим интересам, и в этом смысле она ангажирована на то, чтобы защищать не моральные принципы, а конкретные политические интересы страны. Но, с моей точки зрения, тут должен быть ограничитель – желательно, чтобы политика не противоречила основным моральным ценностям. То есть политики не должны использовать силу, насилие, ксенофобию в качестве инструментов достижения политических целей.
И в России сейчас ставится довольно сильный акцент на морально-этические принципы. Отчасти это связано с ролью церкви: и православная, и католическая церковь очень активно оперирует этими понятиями. Мораль должна быть определяющей при выборе политических решений, иначе политики опять могут прийти к ситуации, когда цель оправдывает средства, как это было при тоталитарных режимах. Мы уже дважды были свидетелями пересмотра оценки исторических событий – существует ли правда истории?
– Английский историк, специалист по истории Советского Союза, главный редактор «Таймс» во время войны как-то написал, что историй столько, сколько историков. Что-то в этом определении есть: мы располагаем миллионами фактов, а значит, уже в самом принципе их отбора элемент субъективности, не говоря про их интерпретацию. Так что это деликатный, непростой вопрос.
– Ну, например, Гражданская война в России, революция: у белых была своя правда, а у красных – своя. Одно время считалось, что красные – это и есть правда истории, а все, что делали белые, – от лукавого. Сегодня оценки поменялись на противоположные. Так же, аристократия, знать
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190